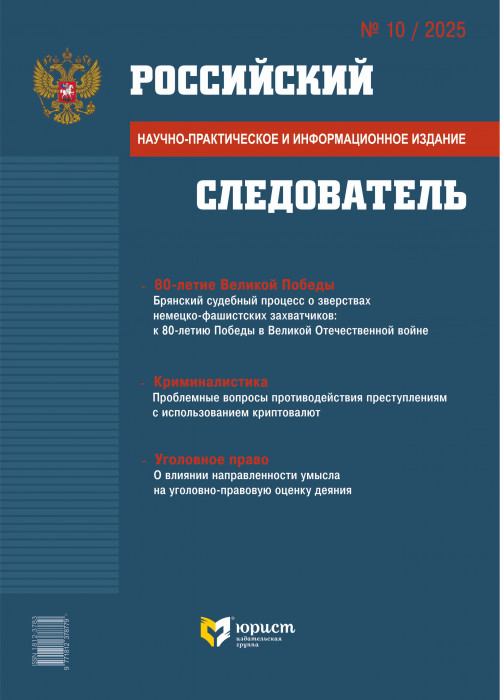Ретроспективные аспекты уголовной ответственности за диверсии в России до 1917 года
Аннотация
В статье рассматривается исторический аспект уголовной ответственности за преступления диверсионного характера в России. Анализ законодательных актов до начала 1917 г. позволил вычленить объекты диверсионного воздействия и способы совершения такого рода преступлений. Акцентировано внимание на том, что некоторые нормы отечественных памятников права со времен Русской Правды и до начала ХХ в. уже содержали признаки диверсионных действий. Сделан вывод, что в досоветский период законодательных актов, содержащих термин, определяющий диверсию, не имелось.
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Российский следователь № 10/2025 |
| Страницы | 67-69 |
| DOI | 10.18572/1812-3783-2025-10-67-69 |
Изучение исторических аспектов, определяющих ответственность за преступления диверсионного характера, безусловно, является ключом к восприятию и пониманию настоящего. Справедливо указывает Н.С. Таганцев, что, исследуя какой-либо современный юридический институт, мы должны увидеть его историческую судьбу. В истории российского законодательства нормы, связанные с преступлениями против безопасности действующей власти посредством подрыва обороноспособности и экономической безопасности, содержатся в самых первоначальных правовых актах.
К преступлениям против власти согласно ст. 8 Русской Правды В.Н. Ельцов, О.Н. Козодаева относят посягательство на князя и к коню князя. А такой способ совершения преступления, как «зажигательство», со времен Русской Правды являлось умышленным деянием и имело существенное значение среди имущественных преступлений, до поры не пресекаясь с государственными.
Поступательное развитие законодательства показывает нам прообразы норм, устанавливающих ответственность за преступления, направленные на подрыв обороноспособности государства. Ярким примером М.Л. Прохорова и М.А. Хурум считают ст. 7 Псковской судной грамоты 1397 г., которая гласила: «А кримскому татю и коневому и переветнику и государственному изменнику и зажигалнику тем живота не дати». В данном случае поджог, рассматривающийся как разновидность госизмены, как раз и позволяет говорить о цели этого преступления в виде подрыва обороноспособности и экономической безопасности действующей власти.
Двинская Уставная грамота, обеспечивая безопасность и обороноспособность действующей власти, усиливает охрану ее собственнности, справедливо считая ее основой независимости. Поэтому и штраф за посягательство на княжеские земли в три раза выше, чем за земли простых жителей. Несомненно, что критерием дифференциации ответственности является именно объект (государственная власть).
Умышленный поджог в виде способа совершения преступления присутствует в Псковской и Новгородской судных грамотах, а в Судебниках 1497 и 1550 гг. проведено его разграничение в зависимости от объекта посягательства на поджог домовладений и поджог городского укрепления. В этом случае объектами являются право собственности и обороноспособность города.