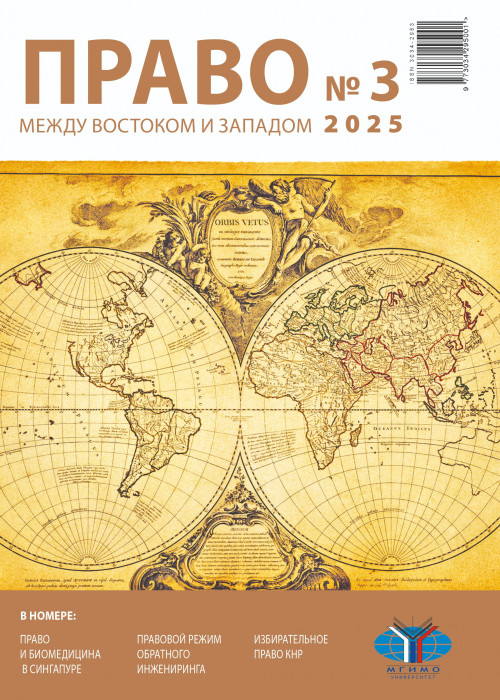Обратный инжиниринг — это условие развития конкуренции и инноваций или акт недобросовестной конкуренции?
Аннотация
В настоящем исследовании наша основная цель состоит в изучении проблем правового регулирования обратного инжиниринга. Установлено, что обратный инжиниринг позволяет идеям, уже реализованным в конкретных продуктах, свободно обращаться на рынках, в том числе находящихся в известной степени зависимости от иностранных разработчиков, которые по ряду причин отказываются от присутствия на них. Определено, что любые принимаемые разработчиками меры по защите конфиденциальности информации посредством ограничения физического доступа к таким сведениям либо ограничению права использования их призваны минимизировать их риски, но не должны ограничивать собственника соответствующего товара в его действиях по вскрытию содержимого товара и анализу специфики его функционирования на основе имеющихся у такого собственника специальных технических и иных знаний, если такие действия не сопряжены с нарушением прав и законных интересов правообладателей. Однако такое ограничение становится обычной практикой, в особенности когда на соответствующие рынки выходят крупные транснациональные корпорации и диктуют другим участникам свои правила. В результате проведенного исследования автор приходит к выводу о недопустимости признания обратного инжиниринга незаконным, ограничивающим конкуренцию, когда речь идет о необходимости обеспечения промышленного паритета и независимости различных государств за счет развития конкуренции и инноваций. Обратный инжиниринг — это условие развития конкуренции и инноваций. Поэтому его ограничение посредством действия различного рода соглашений считаем недопустимым. Исключение составляют случаи, когда речь идет о нечестной коммерческой практике в значении, придаваемом этому термину международными актами в сфере интеллектуальной собственности.
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Право между Востоком и Западом № 03/2025 |
| Страницы | 51-59 |
| DOI | 10.18572/3034-2953-2025-3-51-59 |
В основе производства товара как необходимого условия развития любого рынка лежит результат прямого (forward) либо обратного (reverse) инжиниринга (engineering). Оба процесса получения конечного продукта для цели развития конкуренции имеют право на реализацию, если при этом нет прямого нарушения прав и законных интересов правообладателей. Во втором случае такого нарушения нет, если речь идет об изучении, анализе и оценке соответствующего продукта, содержащего чужой результат интеллектуальной деятельности. Так, это предусмотрено в правопорядках, которые рассматривают обратный инжиниринг как ограничение прав обладателей охраняемых объектов интеллектуальной собственности (см. разд. 906(a) Закона США о защите полупроводниковых чипов 1984 г.). На уровне Европейского союза (ЕС) такого нарушения нет, если речь идет об исследовании, изучении, разборке или тестировании продукта или предмета, которые были доступны на рынке или находятся в законном владении приобретателя, который не связан договорными обязательствами в отношении приобретения коммерческой тайны (см. ст. 3(1)(b) Директивы (ЕС) 2016/943 Европейского парламента и Совета от 8 июня 2016 г. о защите конфиденциальных ноу-хау и деловой информации (коммерческой тайны) от незаконного приобретения, использования и раскрытия).
Исходя из анализа истории развития техники и технологий, определяющая роль в этом развитии отводится не только прямому, но и обратному инжинирингу с целью выявления слабых сторон выводимого на рынок продукта и их своевременного устранения. По этой причине вплоть до второй половины XX в. обратный инжиниринг рассматривался исключительно через призму процесса стимулирования конкуренции и инноваций. На протяжении достаточно длительного периода времени вне зависимости от правопорядка собственник товара был вправе определять не только юридическую, но и фактическую судьбу товара, подвергая его ремонту, переработке и уничтожению вне зависимости от того, где и у кого он был приобретен и какие права лежали в его основе, за исключением отдельных видов имущества, в отношении оборота которых действовали отдельные запреты и ограничения.
Связано это с тем, что в данном случае нет места прямому нарушению прав и законных интересов правообладателей (разработчиков) при изготовлении и последующей реализации продуктов, в основе которых отчасти лежит результат их интеллектуальной деятельности, который (без их согласия либо с их согласия) использован в новом, как правило, более совершенном продукте, полученном инноваторами и введенном в гражданский оборот на соответствующей территории (под другим средством индивидуализации, охраняемым в соответствующем правопорядке) на основе отдельно разработанной конструкторской документации, полученной в ходе обратного инжиниринга продукта, законно приобретенного у его разработчиков. Как это установлено в одном из дел судьей Морритом, «собственник имеет полное право собственности. Он вправе “демонтировать машину, чтобы узнать, как она работает, и поделиться этим с кем угодно”».
Эта идея отражена в тексте преамбулы к Директиве (ЕС) 2016/943, что является основанием для того, чтобы не рассматривать обратный инжиниринг в качестве акта недобросовестной конкуренции, в отношении которого актами публичного права необходимо устанавливать различного рода запреты и ограничения (см. ст. 14.4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ “О защите конкуренции”, ст. 12 Толкования Верховного народного суда по некоторым вопросам применения закона при рассмотрении гражданских дел, связанных с недобросовестной конкуренцией). Иными словами, ничто не должно ограничивать собственника соответствующего изделия в его действиях по вскрытию содержимого изделия и анализу специфики его функционирования на основе имеющихся у такого собственника специальных технических и иных знаний как в целях реинжиниринга, так и устранения неисправностей.
Однако такое ограничение становится обычной практикой, в особенности когда на соответствующие рынки выходят крупные транснациональные корпорации и диктуют свои правила, запрещающие не только обратный инжиниринг, но и любые действия по устранению указанных выше поломок и неисправностей. С целью минимизировать негативные последствия такого выхода на уровне отдельных правопорядков развиваются различные концепции, ограничивающие юридическую монополию правообладателей в интересах потребителей (слабой стороны отношений), которые в дальнейшем являются основой нормирования соответствующих отношений.
В частности, речь идет о концепции права на ремонт (right to repair). Так, к примеру, принятый в США в 2022 г. Закон о справедливом ремонте предусматривает предоставление производителями цифрового электронного оборудования, выводимого на рынок в США, всей необходимой документации и запасных частей независимым поставщикам услуг по ремонту такого оборудования. Соблюдение такого акта обеспечивается компетентными органами США.