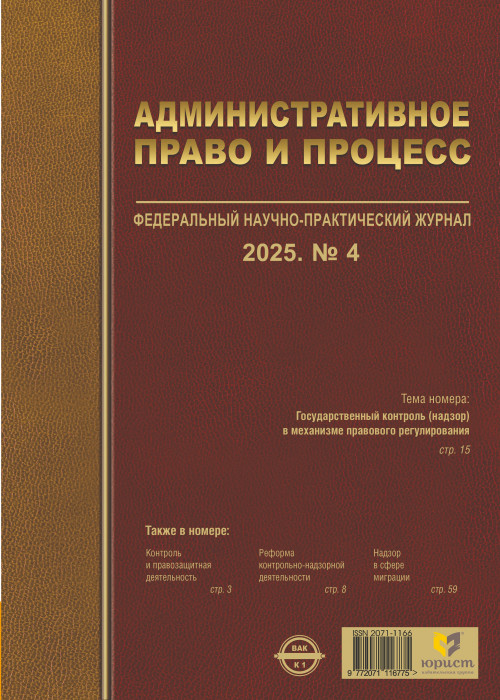Размышления о роли смысловой ошибки в толковании законодательства о контроле (надзоре) и о состоянии ведомственного контроля
Аннотация
В статье подтверждается авторская позиция об отнесении государственного контроля (надзора) к административному надзору, что позволяет его отграничивать от собственно контрольной деятельности как функции управления, которая присуща всем социальным системам, в том числе системе органов публичной власти и публичному управлению. Анализируется теоретическая основа ведомственного контроля в системе органов исполнительной власти, к видам которого на федеральном уровне предлагается отнести контроль федеральных министерств в отношении подведомственных федеральных органов исполнительной власти; контроль федеральных органов исполнительной власти в отношении подведомственных им организаций; контроль федеральных органов исполнительной власти за осуществлением переданной части своих полномочий соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Рассмотрена правовая база контроля федеральных органов исполнительной власти за эффективностью и качеством осуществления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданных им полномочий, а также ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, выявлены недостатки и предложены пути их устранения.
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Административное право и процесс № 04/2025 |
| Страницы | 8-14 |
| DOI | 10.18572/2071-1166-2025-4-8-14 |
Прошло более 10 лет с начала реформы контрольно-надзорной деятельности, которая ознаменовалась новыми для российской правовой науки и практики явлениями: «риск-ориентированный подход»; «обязательные требования»; «регуляторная гильотина»; «надзорные каникулы»; «мораторий на плановые проверки» и т.д. Правовой основой нововведений стали два федеральных закона 2020 г. и множество иных нормативных правовых актов, принятых в их развитие. В период разработки нового закона о контроле и надзоре шла широкая дискуссия о соотношении этих базовых понятий, в которой многие ученые, в том числе и автор данной статьи, занимали последовательную позицию об обязательности законодательного разделения контроля и надзора в связи с их различной правовой природой. Вместе с тем законодатель не услышал этого мнения, пошел по пути «упрощения» правового регулирования, используя юридическую формулу «контроль (надзор)».
Можно было бы согласиться с мнением профессора С.М. Зырянова: «…продолжение дискуссии о соотношении контроля и надзора не имеет смысла, тем более что все основные аргументы pro et contra уже неоднократно приводились в многочисленных работах, опубликованных за последние полвека», если бы смешение указанных понятий не приводило к парадоксам и проблемам на практике. Ярким примером здесь является ситуация, сложившаяся с федеральным государственным пожарным надзором, когда сами пожарно-спасательные части выступают его объектом, а субъектом — вышестоящий орган МЧС России. В реестре МЧС России содержится 1071 запись о категорированных объектах самого этого министерства. Так, под № 20647971 фигурирует пожарно-спасательная часть № 15 по охране Зеленоградского городского округа Калининградской области. Этот объект отнесен к категории умеренного риска. Субъектом надзора обозначено МЧС России, а в качестве контролируемого лица почему-то значится ГУ МЧС России по Калининградской области. Таким образом, в системе надзорной деятельности МЧС России со всеми вытекающими правовыми последствиями задействованы три структуры одного федерального органа исполнительной власти, находящиеся в непосредственной организационной подчиненности. Возникает также вопрос: а есть ли там внутриведомственный контроль?
Перспективным для дальнейших исследований представляется другой вывод С.М. Зырянова: «Ценность для науки и практики имеет характеристика контроля (надзора) как самостоятельной, крупной регуляторной функции, занимающей свое место в регуляторном цикле». Вместе с тем уважаемому автору, являющему одним из ведущих ученых по данной проблематике, проводя анализ стадии контроля (надзора) в регуляторном цикле, с большим трудом удается объединить, а иногда и «примирить» специфические признаки контрольной и надзорной деятельности, выработанные в теории административного права. При этом справедливо обращается внимание на преобладание черт надзора. Так, по сути, С.М. Зырянов указывает на субъект административного надзора, когда пишет: «Основным действующим лицом на этой стадии является орган государственного контроля (надзора), наделенный специальным административно-правовым статусом».