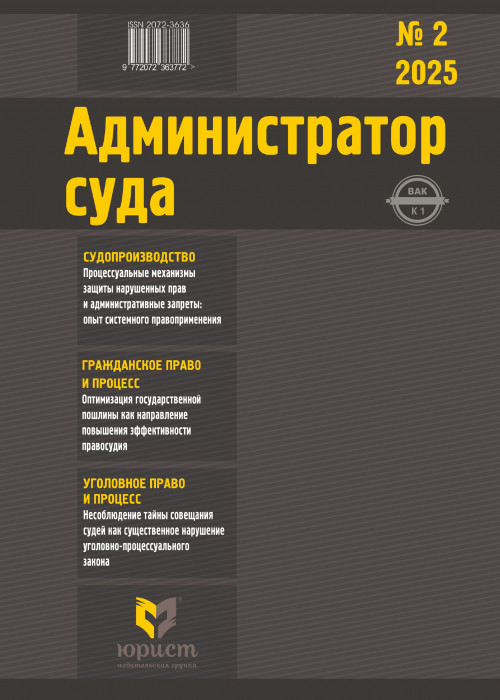Конституционное правосудие — несущая конструкция правового государства
Аннотация
Данная статья является рецензией на учебник «Конституционный судебный процесс», подготовленный коллективом авторов*. В статье анализируется понятие «правовые позиции», занимающее центральное место в конституционном правосудии, акцентируется внимание на судебном прецеденте, выступающем в качестве концептуальной основы правовых позиций.
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Администратор суда № 02/2025 |
| Страницы | 48-53 |
| DOI | 10.18572/2072-3636-2025-1-48-53 |
Рецензируемый учебник, выдержавший уже четыре издания, является результатом многолетних и плодотворных исследований большого научного коллектива. Потребность в переработке и дополнении предыдущих выпусков, как отмечается в предисловии, вызвана необходимостью формирования квалифицированного и структурного представления читателей о совокупности общественных отношений, входящих в предмет конституционного процесса. Актуальность исследования в значительной степени обусловлена новым осмыслением сущности задач, решаемых конституционным правосудием. Учебник отличается комплексным подходом и систематизированным изложением материала. Структурно он состоит из трех глав, охватывающих широкий круг вопросов.
В первой главе «Общетеоретические начала конституционного судебного процесса» авторы большое внимание уделяют исследованию понятия «конституционный контроль», выделяют и анализируют его многочисленные виды: обязательный и факультативный; предварительный и последующий; с наличием обратной связи и без таковой; консультативный и постоянный. В фокусе их внимания – различные точки зрения, связанные с определением места и роли конституционного контроля в механизме конституционного правосудия. Можно, конечно, согласиться с подобной характеристикой и классификацией конституционного контроля. Вместе с тем представляется уместным рассмотреть вопрос об этимологии этого понятия. Вряд ли можно признать удачным сам термин «конституционный контроль», если иметь в виду, что в русском языке слово «контроль» понимается как «наблюдение, надзор в целях проверки», «наблюдение, надсмотр над чем-либо с целью проверки». Следовательно, применительно к конституционному правосудию данный термин не имеет законченного смыслового значения. Исходя из его истинного лексического понимания, он должен соответствовать активным и динамичным действиям, направленным на непрерывную и сплошную проверку федеральных законов и иных нормативных правовых актов на соответствие Конституции РФ. КС, как известно, по собственной инициативе не вправе проверять конституционность указанных актов, выбирать и анализировать те из них, которые вызывают сомнение. В действительности же из бесконечного множества правовых актов и норм КС проверяет лишь единицы. Именно поэтому словосочетание «конституционный контроль» как самостоятельная лексическая единица утрачивает свою юридическую определенность. В учебной литературе не принято углубляться в теоретические споры и дискуссии, в ней должны освещаться только апробированные и общепризнанные положения. Однако лингвистический анализ расширяет когнитивные возможности студентов в понимании сущности конституционного правосудия. От слов и названий часто зависят и признание, и авторитет институтов.
Рассматривая место и роль судебно-конституционного правосудия в общей системе российского правосудия, авторы издания справедливо подчеркивают, что конституционное судопроизводство является самостоятельным видом судопроизводства и носит ярко выраженный публично-правовой характер. Далее, развивая эту мысль, они уточняют, что конституционное судопроизводство осуществляется только в одной инстанции – и что еще, может быть, самое важное – решения КС не подлежат обжалованию, они имеют окончательный характер. Кстати, в первоначальной редакции ФКЗ «О КС РФ» у Высшего органа предусматривалось право «… в случае, если большинство участников заседания палаты склоняются к необходимости принять решение, не соответствующее правовой позиции, выраженной в ранее принятом решении Конституционного Суда РФ, дело передавать на рассмотрение в пленарное заседание» (ст. 73). В 2010 г. эта норма была признана утратившей силу, а вместе с ней упразднен и порядок исправления спорных (ошибочных) решений.