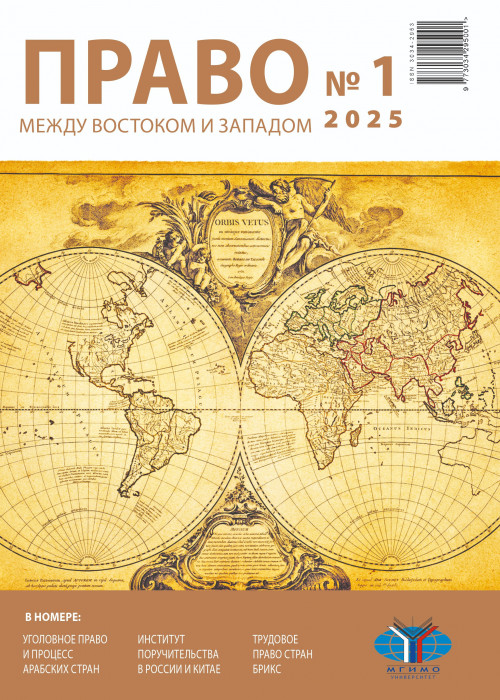Критический анализ стереотипов о федеративном устройстве: контуры новых дискуссий исследователей и практиков государственного строительства в современной России. Часть 3. Конъюнктурные стереотипы
Аннотация
В настоящем исследовании продолжается критическое осмысление наиболее известных стереотипов о федеративном устройстве, сложившихся в мировой доктрине. С позиций критического реализма анализируются конъюнктурные стереотипы, связанные с когнитивными искажениями под воздействием текущей политической повестки, к числу которых отнесены отождествление централизации с бесконтрольностью центральных государственных органов, представления об оптимальной численности субъектов, а также нормализация произвольных вмешательств вышестоящего уровня публичной власти. Выявленные таким образом проблемы значительно выходят за рамки вопросов федеративного устройства и могут быть обнаружены в других элементах предмета отечественного конституционного права.
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Право между Востоком и Западом № 01/2025 |
| Страницы | 39-47 |
| DOI | 10.18572/3034-2953-2025-1-39-47 |
В опубликованных ранее частях настоящей работы были рассмотрены либеральные стереотипы о федерализме, характерные для общемировой доктрины федерализма, а также некоторые стереотипы, сложившиеся в советской доктрине и по сей день сохраняющие свое значение. Однако научная добросовестность требует подвергнуть критическому анализу не только утверждения, в последнее время подверженные усиленной критике в академическом и особенно публичном дискурсе, но и ряд тезисов, набирающих популярность в связи с текущей политической обстановкой.
III. Конъюнктурные стереотипы
Фактически эти идеи отражают квазиконсервативные, псевдотрадиционалистские взгляды на судьбу российского государства как институциональное воплощение «третьего русского пути». Будучи локальным проявлением общеевропейской романтической оппозиции прогрессизму и потому крайне сомнительной в своей исконности и «русскости», сегодня, во времена обостренного запроса на политическую самоидентификацию российских граждан, эта идея и основанные на ней подходы, претендующие на научность, все чаще встречаются в публичном дискурсе. Таким образом, на замену не оправдавшей надежды советской интеллектуальной традиции и демонстративно отвергаемой западной интеллектуальной поп-культуре приходит суррогат собственной интеллектуальной традиции — своего рода интеллектуальный фольклор. В этой парадигме при сохранении реального содержания публичной власти меняются акценты при ее трактовке в научном дискурсе, что, в свою очередь, меняет характер и сферу ее осуществления. Иначе говоря, происходит мистификация политических отношений, влекущая за собой выведение предмета конституционного права из-под действия формальной (научной), институциональной, общеправовой и отраслевой логики.
Чаще всего это касается отождествления централизации с бесконтрольностью центральных органов публичной власти. Отечественные критики либеральной модели федерализма, рассматривающие децентрализацию как основание для усиления сепаратистских настроений, в целях сохранения государственности, укрепления стабильности территориального устройства и его поступательного расширения требуют передачи большего количества полномочий федеральным органам власти. Именно угрозой сепаратизма и противодействием центробежным тенденциям 1990-х годов и была обусловлена централизация 2000–2010-х годов, получившая свое конституционное оформление в поправках 2020 г. Примечательно, что разработчики поправок комментировали включение в конституционный текст упоминания о «единой системе публичной власти» так, будто никакой системы публичной власти в России ранее и не существовало. «Необходимость конституционного подтверждения единства системы публичной власти в стране» была обусловлена «недостаточной скоординированностью» деятельности государственного и муниципального уровней власти, что было предложено исправить правовыми способами, ведь «под воздействием власти общественные отношения становятся целенаправленными, приобретают характер управляемых и контролируемых связей». Конституционный Суд РФ, анализируя соответствующие положения поправок, признал их соответствующими Конституции Российской Федерации (далее — Конституция РФ), увязывая единство системы публичной власти с понятием государственности. В контексте реальной Конституции РФ контролируемое «единство» публичной власти сводится к единству воли ее руководства — Президента РФ, а управляемая «системность» воплощается в ограничении возможных форм осуществления публичной власти.
Глобальный выбор цивилизации, к социальному аспекту которого, несомненно, принадлежит идея об организации общественных отношений на правовой основе, требует, чтобы с переходом публичных функций, составляющих позитивную политико-правовую ответственность, происходил и переход способности нести за их осуществление негативную политико-правовую ответственность.