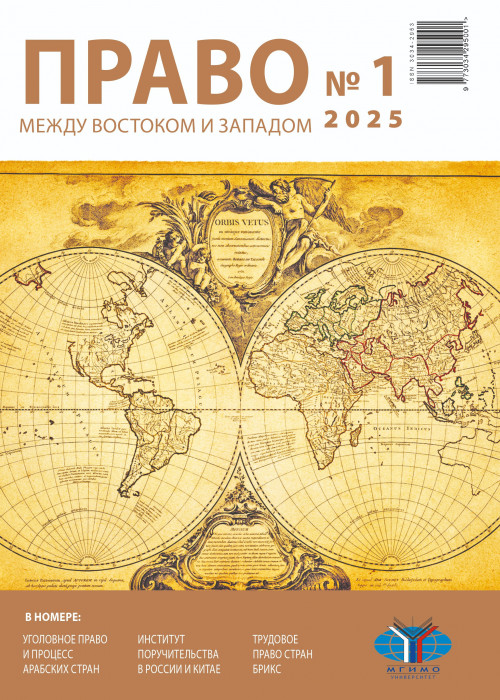Особенности языковой политики государства в условиях быстрого развития информационных технологий
Аннотация
Статья посвящена деятельности государства по нормированию социальной коммуникации и созданию юридических текстов. Показано, что современные информационные технологии бросают вызов таким свойствам публичной власти, как суверенность и легитимность. При этом данные технологии могут быть использованы на благо государства и общества при условии научно обоснованного регулирования лингвистической и коммуникативной сторон правовой жизни.
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Право между Востоком и Западом № 01/2025 |
| Страницы | 9-15 |
| DOI | 10.18572/3034-2953-2025-1-9-15 |
То, что язык выступает не только инструментом политики, но и ее объектом, есть факт, накладывающий на осмысление проблем языковой политики государства ряд важных ограничений. В обычной ситуации (она соответствует общепринятой гносеологической схеме, применяемой в социальном познании) между инструментарием конкретной деятельности и объектами воздействия всегда можно провести определенную границу, а в случае с языком и правом это сделать затруднительно. Совершенствование методов деятельности в идеале не должно предполагать модификации той реальности, с которой соответствующие субъекты имеют дело. Но ряд существующих в настоящее время факторов делает регулирование неклассическим, а противоположность объективного и субъективного — менее четкой и определенной.
В настоящей работе мы не рассматриваем тот аспект языковой политики, который связан с поддержанием статуса определенного языка как государственного — по этой теме ведутся многолетние разработки, с результатами некоторых из них могут ознакомиться все желающие. Нас также не будет интересовать забота публичной власти о языках коренных малочисленных народов Российской Федерации, так как и эта проблематика (сама по себе крайне важная и актуальная для многонациональной страны) лежит за пределами данной статьи. В фокус внимания попадает лишь вопрос о лингвосемантическом обеспечении правового регулирования в эпоху быстрого развития высоких технологий работы с информацией, в том числе алгоритмов искусственного интеллекта. Не обсуждая, в какой мере данные алгоритмы составляют конкуренцию людям и сообществам людей, отметим, что данный контекст — источник значительного числа соображений и прогнозов различной степени спекулятивности. Эти соображения могут быть нивелированы благодаря формально-догматическому методу рассуждения, нейтральному по отношению к задачам, которые государство ставит перед своими регулирующими ведомствами, но такая методика решения проблем с научной точки зрения была бы по меньшей мере неосмотрительна. Напротив, мы убеждены в полезности широкого подхода к теме, при котором оказываются задействованными аргументы из разных дисциплин и практик.
Необходимо отметить, что о правовом регулировании менее всего принято говорить с использованием лингвистической, коммуникативно-стилистической или иной подобной терминологии. То, что воздействие права на сознание субъектов неминуемо проходит стадию интерпретации, вытекает из символического характера этого социального регулятора, который, в отличие от иных нормативных систем, всегда выступает как формально-определенный, следовательно, закрепленный в документах, выполненных на том или ином языке (заметим, что правовой обычай обретает полноту своего существования именно в актах государственного санкционирования и потому не является контрпримером). Толкование, безусловно, может рассматриваться с точки зрения теории языка, а также стилистики и некоторых иных родственных дисциплин. Все элементы правовой системы допускают различные проекции. Если необходимо истолковать право семантически, его представляют как текст, если синтаксически — как логику (т.е. систему, построенную по правилам модальной логики), а если прагматически — как потоки информации, которые можно оценить с точки зрения объема, а также перенаправить от одних получателей к другим. Такое представление может быть развернуто в достаточно сложную теорию, чья основная задача на первом этапе состоит в выявлении специфики законодательных знаков и определении места права как семиотической системы в ряду других систем. Далее исследователи переходят к прагматическим компонентам, говоря о воздействии различных знаковых систем на поведение человека. Допускается и физикалистская редукция исследуемых процессов, в силу чего корни знакового поведения пытаются обнаружить методами нейропсихологии.