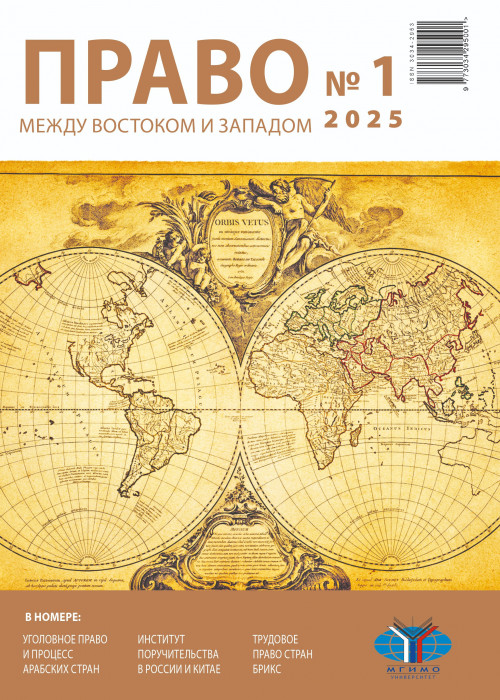Критерии нормального и аномального в языке права: проблемы поиска и применения
Аннотация
Решение актуальной в теоретическом и практическом плане задачи повышения качества нормативных правовых текстов невозможно без ясного понимания того, что является в языке права нормой, а что — аномалией. В статье обосновывается, что определить критерии нормального и аномального в языке права могут исключительно ученые-лингвисты, опираясь на знание закономерностей и тенденций развития языка как феномена культуры, а также на понимание тех особенностей, которые приобретает язык права в современных условиях, функционируя и изменяясь в неразрывной связи с законодательством, правовой практикой, правосознанием. Принимая лингвистические представления о нормальном и аномальном для языка права как данность, ученые-юристы получают возможность повысить эффективность усилий, направленных на разработку и реализацию таких юридико-технических средств, приемов и правил, применение которых облегчает восприятие и интерпретацию юридических текстов.
| Тип | Статья |
| Издание | Право между Востоком и Западом № 01/2025 |
| Страницы | 2-8 |
| DOI | 10.18572/3034-2953-2025-1-2-8 |
Общим местом многих работ, посвященных проблемам языка права, является констатация существующих в нем проблем, поэтому традиционно актуальным для юридической техники на протяжении многих лет остается вопрос о том, что для названного языка является нормой, а что — аномалией. Решение обозначенного вопроса обоснованно рассматривается в качестве необходимого условия совершенствования языка законов, подзаконных и правоприменительных (в том числе судебных) актов, а в итоге — правового регулирования в целом.
Проблемы языка права относятся к области юрислингвистики, находящейся на стыке юриспруденции и лингвистики, и в этой связи закономерным образом возникает вопрос о том, кто должен определять критерии нормального и аномального в языке права.
С одной стороны, существует большой соблазн декларировать, что успешное исследование межпредметной области требует «всестороннего и комплексного анализа», и в этой связи ответ на вопрос о критериях нормального и аномального в языке права юристы и лингвисты должны искать сообща. С другой стороны, для лингвистов и юристов язык права выступает абсолютно по-разному интерпретируемым феноменом: если первые видят в нем прежде всего знаковую систему, являющуюся частью культуры, то вторые — инструмент управления человеческим поведением, а в некоторых случаях вообще элемент юридической техники. Кроме того, видение языка права не совпадает у ученых-юристов и юристов-практиков, поскольку последние ориентируются прежде всего на формально закрепленные требования и рекомендации, а также на сложившиеся в правовой практике обыкновения.
В описываемой ситуации возникают опасения, что совместный поиск критериев нормального и аномального в языке права лингвистами, учеными-юристами и юристами-практиками может превратиться в процесс, описанный И.А. Крыловым в басне про Лебедя, Рака и Щуку.
С практической точки зрения лингвистические аспекты характеристики юридических текстов значимы постольку, поскольку использование инструментов языка в качестве средств выражения нормативно-правовых предписаний и индивидуально-властных решений является условием самого существования и функционирования права. В силу этого логичным было бы предположить, что вопрос о критериях нормального и аномального в языке права должен решаться учеными-юристами. Однако язык права воспринимается ими утилитарно и часто вне сложной системы исторических, этнических и иных факторов, определяющих наиболее общие закономерности развития и функционирования русского языка. Как следствие, вопрос о критериях нормального и аномального в языке права, во-первых, трансформируется в проблему формулирования и реализации обязательных требований к отдельным составляющим названного языка (языку закона, языку правоприменительных актов, языку судебных документов и т.д.). Во-вторых, требования определяются во многом по наитию, исходя из обыденных представлений о том, что для текста закона хорошо, а что — плохо. При этом ни найти действенные способы обеспечить осуществление сформулированных требований, ни объяснить, почему они, несмотря на предпринимаемые усилия, не находят своей реализации, ученые-юристы оказываются не в состоянии.
Поскольку юристы объективно испытывают затруднения с тем, чтобы выйти за рамки обыденных представлений о языке, постольку предпринимаемые с целью оптимизации языка права и отдельных его составляющих усилия не дают тех результатов, к которым они сами стремятся. Например, общим местом многих исследований, затрагивающих проблемы языка нормативных актов, является констатация того, что он должен быть ясным. Доктринальная идея находит отражение в действующем законодательстве и правовой практике. В то же время проводимые исследования свидетельствуют о том, что язык законов не становится более ясным; напротив, наблюдаются тенденции, свидетельствующие о том, что уяснение смысла текста законов становится все более трудной задачей. Так, в ходе исследования, проведенного экспертами НИУ «Высшая школа экономики», было установлено, что отдельные российские законы по сложности текста значительно превосходят «Критику чистого разума» Иммануила Канта.