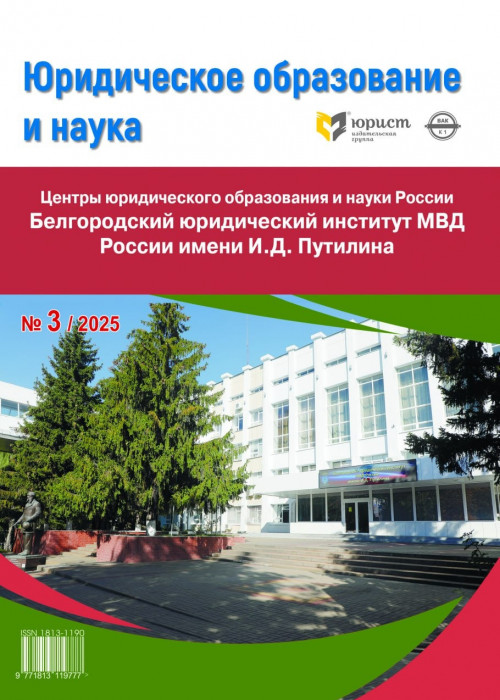От редакции
| Тип | Статья |
| Издание | Юридическое образование и наука № 03/2025 |
Статья Александра Ивановича Бойко — это взгляд ученого, профессора и гражданина на проблемы в области юридической науки и образования. Как видно, известный ученый и педагог остро переживает все, что происходит в юриспруденции. Его опыт и талант, несомненно, позволяют ему не соглашаться со многими принятыми решениями. Разумеется, его позиция имеет право на существование и говорит об обеспокоенности за судьбу страны и судьбы тех, кто профессионально занимается юриспруденцией. Далеко не со всеми выводами А.И. Бойко я согласен, однако его мнение, так же, как и любое другое мнение, направленное на дальнейшее совершенствование юридической науки, образования и практики, должно быть выслушано.
В то же время некоторые упреки мне представляются не вполне аргументированными. 1. Упрек, который я не могу принять, — это якобы большое число защит по юриспруденции: в 2017 г. защищено 46 докторских и 490 кандидатских диссертаций по юриспруденции, в то время как в Российской империи до революции 1917 г. эта цифра была меньше за все время практики защит. Во-первых, практика защит диссертаций по юриспруденции в императорской России была неоднозначной, достаточно вспомнить так называемую «дерптскую» аферу. Во-вторых, в царской России образовательных организаций было, что называется, по пальцам пересчитать: только в начале XX в. количество университетов достигло числа 12, и это, замечу, на всю Россию, куда входили Финляндия, Польша и Прибалтика — между прочим, во всех вышеназванных теперь самостоятельных государствах были университеты, в отличие от так называемой глубинки России, где абсолютное большинство населения было элементарно безграмотным, — это к вопросу об угнетении и угнетателях, при том, что не во всех проходили защиты по юриспруденции. В-третьих, сравнивать количество и даже качество защит в то время и сейчас, безусловно, интересно, но совершенно некорректно. Наконец, напомню, что по числу защит диссертаций юристы ни в советское, ни в постсоветское время никогда не были ни на первом, ни на втором, ни даже на третьем месте.
2. Упрек, который недостаточно доказан, — это недетальное прописывание Паспорта научной специальности 5.1.4. Задача разработчиков Паспорта заключалась ровно в обратном — дать соискателям ученых степеней максимум возможностей для толкования направлений научных исследований. При этом выделение в отдельное направление «уголовной политики», как мне представляется (к разработке Паспорта имею опосредованное отношение), говорит о важности, которое ей придается, а не принижает ее значение.
3. Упрек в адрес Минобрнауки России, что ее представители якобы оказывают какое-то влияние на создание так называемых «разовых» диссоветов, не соответствует действительности. Я никогда не работал в профильном министерстве, но совершенно точно знаю, что создание и работа «разовых» диссоветов целиком и полностью находятся в ведении руководителя организации, при которой они действуют. Ни представители министерства, ни кто-либо другой повлиять на это в соответствии с действующими нормативными предписаниями не могут.
Не соглашаясь с отдельными положениями представляемой статьи, вместе с тем уверен, что любой человек, посвятивший свою жизнь не только юридической науке, но и педагогике в самом широком понятии, поймет и разделит неравнодушие ее автора.