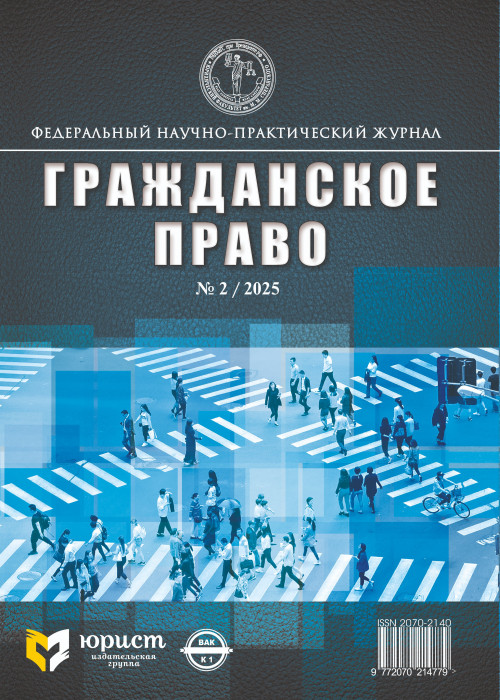К вопросу о запрете на участие в управлении деятельностью хозяйственного общества лицом, признанным банкротом
Аннотация
Статья посвящена некоторым проблемным вопросам, связанным с законодательным запретом на участие в управлении деятельностью хозяйственного общества лицом, признанным банкротом. Представлен авторский подход к установлению запрета на участие в управлении деятельностью хозяйственного общества в отношении обанкротившихся граждан по критерию их добросовестности. Обращается внимание на отсутствие законодательного правила, регламентирующего осуществление банкротом принадлежащих ему корпоративных прав как участнику хозяйственного общества. Автором предложены пути решения вопроса исключения банкрота из хозяйственного общества в связи с неисполнением им обязанности по принятию корпоративных решений.
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Гражданское право № 02/2025 |
| Страницы | 43-46 |
| DOI | 10.18572/2070-2140-2025-2-43-46 |
Вопрос о запрете на участие в управлении деятельностью хозяйственного общества лицом, признанным банкротом, является одним из наиболее спорных и неоднозначных с точки зрения его решения, а также правоприменения и может быть охарактеризован как один из самых актуальных в юридической литературе, в связи с тем, что порождает массу неразрешенных доктринальных проблем, правовых коллизий и пробелов правового регулирования, создающих определенные сложности в процессе правоприменительной деятельности. Установленный п. 3 ст. 213.30 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (ред. от 26.12.2024) «О несостоятельности (банкротстве)» (далее ⸺ Закон о банкротстве) запрет на управление деятельностью хозяйственного общества в течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве пронизывает всю систему российского корпоративного права, оказывает влияние на её ключевые элементы, непосредственно затрагивая сферы корпоративного управления, корпоративного контроля, правового статуса участников корпорации и др.
Рассуждая о целесообразности законодательного установления данного запрета, можем отметить, что замысел законодателя связан с необходимостью обеспечения стабильности функционирования и развития хозяйственного общества, а также защиты интересов его участников и кредиторов. Введение такого запрета обусловливается и тем фактором, что банкротство физического лица нередко ставит под сомнение его деловую репутацию, компетентность и способность принимать взвешенные решения, что может негативно отразиться на управлении хозяйственным обществом и стать причиной его возможных убытков либо банкротства. Как справедливо отмечает С.А. Слесарев, логика законодателя при установлении банкроту запрета на участие в управлении хозяйственным обществом сводится к тому, что «если человек не может разобраться со своей жизнью и своими долгами, распланировать личный бюджет и управлять домашним хозяйством, то как ему можно доверять управление юридическим лицом?» Следует признать, что подобное мнение не лишено смысла, в силу того что одной из целей введения п. 3 ст. 213.30 Закона о банкротстве является превенция допущения к управлению делами хозяйственных обществ лиц, проявивших неосмотрительность при участии в гражданском обороте и неспособность в эффективном управлении своими финансовыми активами, которые привели их к собственной финансовой несостоятельности (банкротству). Такой подход способствует формированию более ответственного и благонадежного руководства, способного наиболее грамотно принимать корпоративные решения, способствующие росту чистой прибыли и капитализации хозяйственного общества.
Между тем следует отметить, что по данному вопросу существует и противоположная позиция, сторонники которой считают, что установленный запрет не реализует заявленных при его введении целей и, более того, нарушает права обанкротившихся лиц. Так, например, В.И. Григорьев отмечает, что само по себе банкротство физического лица не должно гарантированно лишать его возможности «управлять юридическими лицами, поскольку это ограничивает правовые возможности должника начать новую экономическую жизнь и заново включиться в гражданский оборот», поэтому абсолютизация данного запрета избыточна.
На наш взгляд, запрет на управление деятельностью хозяйственного общества лицом, признанным банкротом, должен наступать лишь вследствие доказанности совершения им недобросовестных и незаконных действий, выявленных при ведении дела о несостоятельности. В иных же случаях банкротство физического лица в силу объективных экономических факторов, недобросовестных действий контрагентов, форс-мажоров и иных причин, не связанных с недобросовестностью и незаконностью действий последнего, не должно приводить к установлению запрета, предусмотренного п. 3 ст. 213.30 Закона о банкротстве.