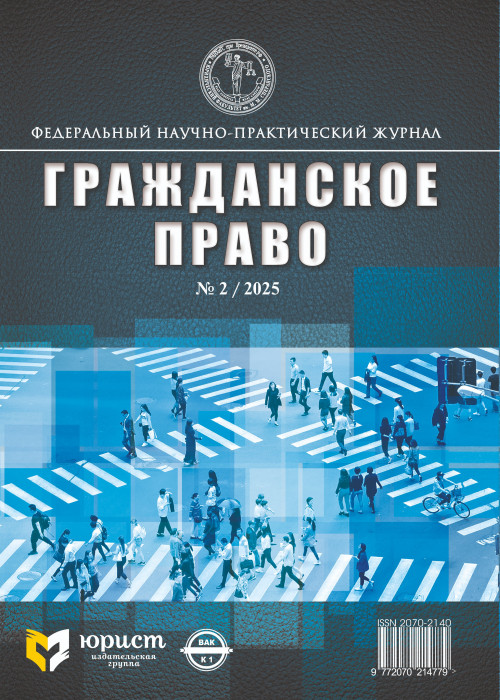Проблема «плюрализма» юридических фактов, опосредующих возникновение обеспечительного обязательства между гарантом и бенефициаром
Аннотация
Статья содержит критический анализ подходов относительно (не)обоснованности возникновения гарантийного обеспечительного правоотношения не только в силу одностороннего волеизъявления гаранта, но и в результате заключения последним соответствующего соглашения с бенефициаром; доказывается догматическая приемлемость «плюралистической» модели, при этом отстаивается тезис о логичности восприятия договора, форматирующего гарантийное обязательство, в качестве поименованного.
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Гражданское право № 02/2025 |
| Страницы | 10-13 |
| DOI | 10.18572/2070-2140-2025-2-10-13 |
Утверждая о правомерности порождения обеспечительного обязательства между гарантом и бенефициаром в результате совершения гарантом односторонней сделки ⸺ акта выдачи независимой гарантии (далее ⸺ НГ) (а данный вывод подкрепляется весомыми доводами и догматического, и формально-юридического толка), нельзя не задаться вопросом о том, насколько оправданно считать такое состояние дел единственно возможным (разумеется, в плоскости «подчинения» отношений сторон правилам Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) именно о независимой гарантии).
Некоторые ученые отстаивают точку зрения (прежде всего исходя из буквального анализа нормативных установлений, причем в редакции и до, и после кардинальной модернизации в 2015 г. гражданского законодательства о способах обеспечения исполнения обязательств), в соответствии с которой выдача гарантии (как таковая) при любом раскладе являет собой одностороннюю сделку. К примеру, Р.П. Сойко применительно к банковской гарантии отмечает, что «…это всегда [здесь и далее курсив в цитатах наш. ⸺ Ю.П.] односторонняя сделка».
Данной «жесткой» линии, наверное, придерживается Е.А. Мичурина: комментируя встречающийся в науке подход, при котором «…выдача… гарантии в зависимости от… обстоятельств может быть двухсторонней или многосторонней сделкой», автор все-таки исходит из того, что «…способ воплощения договоренностей не является критерием при определении правовой природы… действий» и что даже если в НГ указывается на вступление ее «…в силу после получения извещения бенефициара о принятии гарантии…» «…это не дает оснований говорить о соглашении…».
Подобное постулирование в принципе не лишено резонов: действия гаранта и бенефициара здесь рассматриваются в качестве автономных, и в этой логике взаимоотношения субъектов опосредуются «цепочкой» их односторонних актов. В данном измерении нельзя не обратить внимания на озвученную в п. 2 постановления Пленума ВАС РФ от 23 марта 2012 г. № 14 «Об отдельных вопросах практики разрешения споров, связанных с оспариванием банковских гарантий» формулу о том, что, «…выдавая и принимая гарантию, гарант и бенефициар действуют своей волей и в своем интересе, они свободны в установлении своих гражданских прав и обязанностей», при этом одновременно делается отсылка к ст. 156 (о регулировании односторонних сделок, в том числе общими положениями о договоре) и ст. 421 ГК РФ (о свободе договора): приведенное разъяснение, пожалуй, можно расценить и как подтверждение тезиса о юридико-фактической самостоятельности актов выдачи и принятия гарантии (обращение же к принципу свободы договора обусловливается субсидиарным применением к односторонним сделкам норм о договорах).
Между тем немало ученых поддерживают иной, образно говоря, «плюралистический» подход, в рамках которого возникновение гарантийного обязательства (в контексте предписаний § 6 гл. 23 ГК РФ) может происходить и посредством совершения гарантом односторонней сделки, и благодаря заключению договора с его участием.