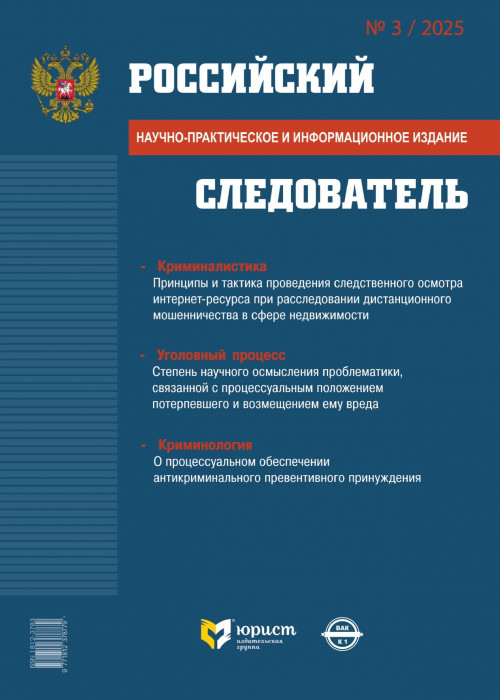Умышленные медицинские преступления против личности: новеллы законодательства и проблемы совершенствования (продолжение)
Аннотация
В настоящей статье автор предпринял попытку систематизировать наиболее актуальные проблемы квалификации случаев незаконной госпитализации по ст. 128 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Российский следователь № 03/2025 |
| Страницы | 36-40 |
| DOI | 10.18572/1812-3783-2025-3-36-40 |
В продолжение затронутой ранее темы умышленных преступлений медицинских работников против личности следует отметить, что одним из оснований классификации преступных деяний, в том числе и медицинских, выступает видовой и непосредственный объект посягательства, которые в данном случае часто совпадают между собой.
Так, умышленные медицинские преступления против личности, на наш взгляд, подразделяются на преступления против жизни и здоровья пациента (ст. 122, 123, 124 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ), против свободы, чести и достоинства пациента (ст. 128 УК РФ) и против конституционных прав и свобод пациента как человека и гражданина (ст. 137 УК РФ).
Юридический анализ первой категории преступлений был представлен автором в более ранних публикациях, поэтому в настоящей статье мы остановимся на рассмотрении может быть не столь опасного, но не менее актуального состава, предусмотренного ст. 128 УК РФ.
Так, ст. 128 УК РФ регулируется наступление уголовной ответственности за незаконную госпитализацию в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. По сути, данное преступление является разновидностью незаконного лишения свободы, предусмотренного в настоящее время как уголовно-правовой состав в ст. 127 УК РФ, однако законодатель, видимо, памятуя о повсеместных, в том числе и в российском государстве, имевших место вплоть до середины ХХ столетия случаев злоупотребления психиатрией в немедицинских целях, традиционно выделяет данное преступное деяние в отдельную статью Уголовного кодекса. При этом, если в большинстве других стран во второй половине ХХ века ситуация с недобровольной госпитализацией становилась, скорее, исключением из общего правила, то в СССР, начиная с 1960-х гг., она приобрела наиболее частый и циничный характер. И речь здесь идет не только об известных преследованиях правозащитников-«диссидентов» (биолога Ж. Медведева, генерала П. Григоренко и ряда других лиц), но и о частных случаях преследования рядовых граждан, вступивших в конфликт с представителями власти или их родственниками. Не является секретом и то обстоятельство, что в 60–80-е годы ХХ века в московской школе советской психиатрии стала широко распространенной неверная диагностика шизофрении. Как было отмечено рядом исследователей, в их числе Ж. Гаррабе, диагноз вялотекущей шизофрении, критерии которой были значительно расширены по сравнению с принятыми на Западе критериями, нашёл применение в практике репрессивной психиатрии в СССР.
Примечательно также, что как Уголовным кодексом РСФСР 1926 г., так и Уголовным кодексом РСФСР 1960 г., уголовная ответственность за незаконное помещение в психиатрическую больницу предусматривалась исключительно за совершение таких действий в отношении заведомо для виновного психически здорового лица, что, соответственно, создавало благоприятную почву для указанных злоупотреблений в психиатрии, поскольку понятие «заведомости» в уголовно-правовой науке относится к категории сложнодоказуемых в силу отсутствия четких юридических критериев ее оценки.