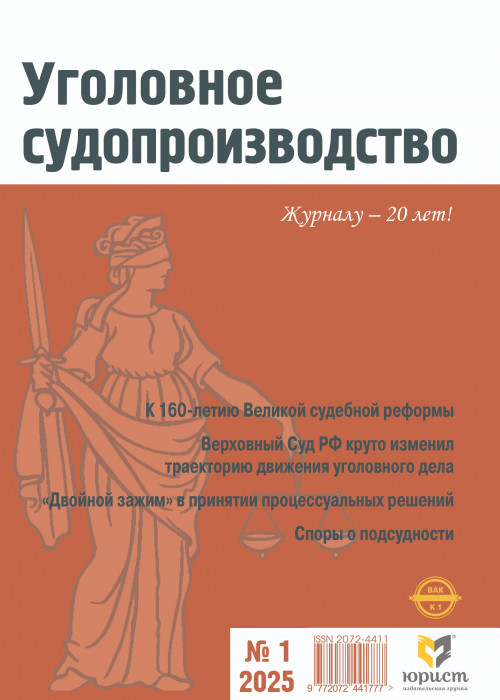Особенности уголовно-правовой охраны интересов правосудия в преступлении, предусмотренном ст. 305 УК РФ
Аннотация
По результатам исследования, проведенного по фактам привлечения судей к уголовной ответственности, обобщена практика уголовного преследования по ст. 305 Уголовного кодекса РФ (УК РФ) за вынесение заведомо неправосудного судебного акта. На основании полученных результатов автор анализирует особенности правовой конструкции объекта данного преступления, приходит к выводам о вариативности умышленной формы вины (наличии косвенного умысла), о необходимости выявления стадий данного преступления и возможности уголовного преследования с применением ст. 30 УК РФ, о необходимости выявления его признаков при совершении судьями других должностных преступлений. Эти и другие меры помогут усилить уголовно-правовую охрану интересов правосудия при применении ст. 305 УК РФ.
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Уголовное судопроизводство № 01/2025 |
| Страницы | 29-33 |
| DOI | 10.18572/2072-4411-2025-1-29-33 |
Правосудие в современном мире является наиболее эффективным способом защиты прав и свобод человека и гражданина, а потому его интересы в российском правовом пространстве охраняются особо. Одним из способов этой охраны является глава 31 Уголовного кодекса РФ (УК РФ) («Преступления против правосудия»), предусматривающая ряд уголовно наказуемых деяний, посягающих на нормальное решение судом стоящих перед ним задач. Они могут совершаться различными субъектами — участниками процесса, сотрудниками правоохранительных органов, иными лицами. Судьи в связи со своей профессиональной деятельностью нередко становятся потерпевшими по данным преступлениям (например, по ст. 294‒298.1, 311 УК РФ), однако по одному из них, а именно по преступлению, предусмотренному ст. 305 УК РФ («Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта»), судья сам является его субъектом.
Уместно здесь отметить, что объектом уголовно-правовой охраны от самих его вершителей интересы правосудия были и в советское время: действующая редакция ст. 305 УК РФ практически полностью воспроизводит ст. 177 УК РСФСР 1960 г., а также ст. 114 УК РСФСР 1926 г., ст. 111 УК РСФСР 1922 г., где предусматривалась аналогичная сегодняшней ответственность судей за данное преступление (только вместо условия заведомости они устанавливали наличие у судей корыстной или иной личной цели, а также предусматривали более тяжелые санкции — «вплоть до расстрела»).
Ученые в конструкции ст. 305 УК РФ достаточно единодушно выделяют два объекта посягательства: основной — общественные отношения, обеспечивающие решение судом стоящих перед ним задач правосудия, и дополнительный — права, свободы и законные интересы сторон. Обратим внимание: объект сконструирован именно так, а не наоборот (состав помещен в главе 30, а не 19 УК РФ («Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина»), где бы он мог звучать, например, как «Нарушение права на судебную защиту путем вынесения судьей неправосудного судебного акта» или что-то подобное).
Для составления полного и объективного представления об особенностях уголовно-правовой охраны интересов правосудия как объекта преступления, предусмотренного ст. 305 УК РФ, нами было проведено самостоятельное исследование, результаты которого частично излагались ранее. Заданная формулировка объекта влечет ряд определенных последствий: во-первых, она говорит о приоритете публичного интереса над частным, что ставит под сомнение возможность реализации диспозитивного начала в ходе производства по данной категории дел — например при прекращении уголовного дела (преследования) за примирением. Как видится, примирение между подсудимым и потерпевшим, допускаемое по ч. 1 ст. 305 УК РФ (это преступление не отнесено к категории тяжких и особо тяжких), даже при выполнении всех формальных условий, здесь выглядит неуместно. Потерпевшими в таких делах чаще всего признаются физические или юридические лица, интересы которых непосредственно ущемлены неправосудным судебным актом. Как правило, это лица, которые не были извещены о рассмотрении их дела; лица, которые лишились имущества незаконным решением суда и пр.