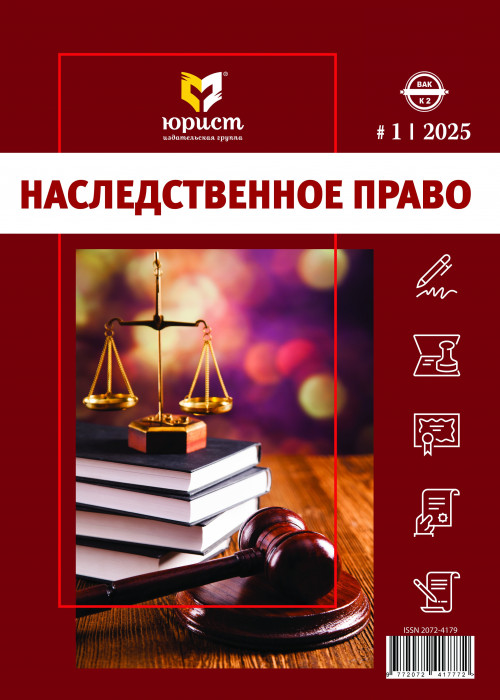Перспективы развития института завещательного возложения в свете сравнительно-правового анализа и судебной практики
Аннотация
В центре внимания автора статьи — институт наследственного права, позволяющий наиболее эффективно реализовать последнюю волю завещателя — институт завещательного возложения. Исследовав истоки конструкции, сравнив действующее в России регулирование с зарубежными аналогами, автор формулирует конкретные предложения по его усовершенствованию. Анализ современной судебной практики позволил автору обозначить и предложить пути разрешения проблем надлежащего исполнения завещательного возложения и определения пределов свободы воли завещателя.
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Наследственное право № 01/2025 |
| Страницы | 6-11 |
| DOI | 10.18572/2072-4179-2025-1-6-11 |
Об актуальности вопроса
В гражданском праве, что составляет качественное отличие данной отрасли, основополагающей категорией является воля. При этом законодатель провозглашает имманентно присущей характеристикой метода гражданско-правового регулирования – автономию воли (п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). В связи с чем и нормы наследственного права призваны гарантировать участникам гражданско-правовых отношений возможность в полной мере реализовать свою последнюю волю в отношении приобретенных и произведенных материальных и духовных благ. В этом смысле фигуру завещателя следует рассматривать в качестве творца, который самостоятельно призывается написать сюжет событий, которые будут происходить после его смерти с вполне конкретно сформулированными целями. Вот почему гражданско-правовые нормы должны вооружить завещателя такими правовыми средствами или инструментами, которые не только стандартно-типично обеспечат переход имущества другим лицам после его смерти, но и помогут эффективно данные цели реализовать. Подобные инструменты возникли еще в Древнем Риме. Так, согласно римскому модусу, получатель безвозмездной материальной выгоды обязывался направить часть ее стоимости на определенные цели. Позднее в законодательствах стран мира стали появляться особые нормы, регулирующие завещательные обременения. Такого рода регуляторы появились и в наследственном праве нашей страны, к числу которых с полным основанием можно отнести институт завещательного возложения (ст. 1139 ГК РФ). Однако действующее регулирование, состоящее из одной статьи кодифицированного гражданского закона, можно признать достаточно скудным. Не внесла фундаментальный вклад в развитие учения о завещательных обременениях и российская цивилистическая наука. Соответственно, не получила динамичного развития правоприменительная, в том числе судебная, практика. Сказанное свидетельствует об актуальности разработки заявленной темы, включая систему вопросов, касающихся правовой природы института, статуса наследников и выгодоприобретателей, объема судебной защиты и многих других.
Дореволюционные истоки учения о наследственных обременениях
Об истоках конструкции завещательного возложения писали классики дореволюционной цивилистики – С.А. Муромцев, А.И. Каминка, Н.О. Нерсесов, С.В. Пахман, Ю.С. Гамбаров, Г.Ф. Шершеневич, Н.Г. Вавин. Так, С.А. Муромцев размышлял о конструкции завещательного возложения в условиях Древнего Рима в связи с признанием посредством завещания рабов свободными. Раб признавался свободным, если господин в завещании называл его своим сыном. При этом на такого отпущенника господин мог возложить уплату денежной суммы или совершение какого-либо действия. Таким образом раб получал свободу только при условии исполнения обязательств, возложенных на него завещателем. А.И. Каминка, предлагая толкование Устава о векселях, упоминал о возможном возложении завещателем поручения о выдаче векселя за счет завещанного имущества. Такого рода выдача могла быть прямо предусмотрена завещанием или она оказывалась необходимой в связи с исполнением завещательного распоряжения. Н.О. Нерсесов в историческом очерке о бумагах на предъявителя приводит пример четырёх документов, появление которых относится к середине X века, в которых право требования предоставляется просто владельцу без обозначения имени первоначального кредитора. Указанные документы относились не к области обязательственного права, а к завещательным распоряжениям. Завещатель в то время мог возложить на наследника сделать известную выдачу c целью спасения души. При неисполнении возложенной обязанности наследник обязывался уплатить неустойку тому, у кого в руках окажется документ. С.В. Пахман, анализируя римские источники, упоминает о наследственных фидеикомиссах, в соответствии с которыми на прямого наследника могла быть возложена обязанность выдать все наследство или его часть определенному лицу. Ю.С. Гамбаров, рассуждая о средствах понуждения к исполнению модуса, замечал, что в случае завещательных распоряжений иск об исполнении обязанности мог предъявляться наследником, в определенных случаях при совокупности условий (эвентуально) душеприказчиком, а также государством, если оно было заинтересовано в исполнении.