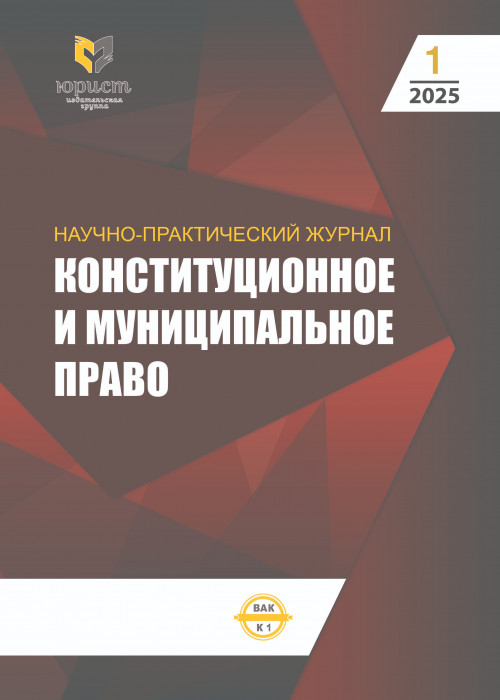Предмет судебной деятельности в конкретном конституционном нормоконтроле: соотношение частных и публичных начал
Аннотация
Настоящая работа посвящена исследованию вопроса о том, на что направлена деятельность Конституционного Суда РФ при рассмотрении дел в порядке конкретного конституционного нормоконтроля — разрешение спора о субъективном конституционном праве заявителя или поддержание и восстановление верховенства Конституции РФ. На основе анализа динамики нормативного регулирования и подходов конституционно-судебной практики автор приходит к выводу о том, что актуальная гибкая нормативная модель позволяет Конституционному Суду РФ сочетать в своей деятельности оба указанных направления. Такое сочетание частных и публичных начал в деятельности Конституционного Суда РФ позволяет ему эффективно выполнять свое предназначение по охране Конституции РФ. Вместе с тем это, в свою очередь, поднимает проблему отбора дел для рассмотрения в порядке конституционного судопроизводства.
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Конституционное и муниципальное право № 01/2025 |
| Страницы | 53-59 |
| DOI | 10.18572/1812-3767-2025-1-53-59 |
Постановка проблемы
В процессуально-правовых науках принято выделять категорию «предмет судебной деятельности», определяемую как то, на что направлено поведение суда при осуществлении правосудия. Вопрос о предмете судебной деятельности в гражданском (спор о субъективном частном праве) или уголовном (решение вопроса об уголовной ответственности обвиняемого лица) судопроизводстве хорошо осмыслен в теории. Что же касается такого специфичного вида судебной деятельности, как нормоконтроль, который осуществляется в Российской Федерации в порядке административного или конституционного судопроизводства, то вопрос о том, на что направлена (исходя из действующего процессуального законодательства) и на что должна быть направлена эта деятельность при разрешении соответствующих дел, является дискуссионным. Судебный нормоконтроль имеет двойственную частно-публичную природу и, соответственно, может быть ориентирован как на защиту субъективных прав заинтересованных лиц, так и на проверку и поддержание законности (конституционности) нормативного регулирования. На данный момент в доктрине не сложилось представления о том, какое из этих направлений должно превалировать и возможно ли создание такой нормативной модели, при которой между ними будет соблюдаться баланс.
К примеру, действующая модель административного (ординарного) нормоконтроля, предусмотренная Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации, имеет ярко выраженную публично-правовую направленность: предметом судебной деятельности при разрешении соответствующих дел выступает проверка законности нормативного правового акта, в то время как вопрос о конкретных материальных правах административного истца по существу судом не разрешается, а исследуется им лишь на этапе принятия административного искового заявления к рассмотрению, когда суд проверяет наличие у административного истца субъективной заинтересованности, т.е. имеются ли основания полагать, что оспариваемый акт затрагивает его права (п. 4 ч. 2 ст. 209 КАС РФ). В дальнейшем, в ходе рассмотрения дела по существу, наличие или отсутствие нарушения прав административного истца как таковое не влияет на принимаемое судом решение: отказ административного истца от своего требования не влечет обязанность суда прекратить производство по делу (ч. 10 ст. 213 КАС РФ), а условием удовлетворения иска законом прямо названо несоответствие оспариваемого акта иному нормативному акту, имеющему большую юридическую силу (п. 1 ч. 2 ст. 215 КАС РФ).
Такая модель ординарного нормоконтроля имеет своих сторонников, которые полагают, что задача суда при разрешении соответствующих споров — «в первую очередь контроль за законностью или конституционностью актов и действий и в связи с этим защита прав», т.е. защита публичного интереса (курсив мой. — Н.Т.). Однако нельзя не видеть, что максимизация значения публичных интересов приводит к серьезным негативным последствиям: при таком взгляде на предмет судебной деятельности суды, осуществляя нормоконтроль, зачастую ограничиваются лишь формальной проверкой соответствия нормативного правового акта по форме и содержанию другому нормативному акту большей юридической силы, не выясняя по существу вопрос о нарушении оспариваемым актом прав административного истца, что, вопреки предписаниям ст. 2, 18 и 46 (ч. 1) Конституции РФ, значительно снижает эффективность такого способа судебной защиты.