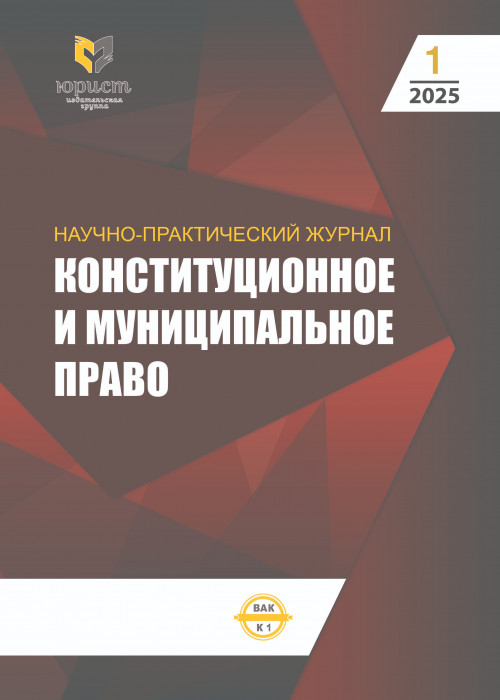Соотношение доктрины и модели публичной власти: модель как практическое воплощение доктрины
Аннотация
Исследуется роль доктринально-юридических конструкций в понимании и управлении правовым развитием и формировании конституционной модели публичной власти. Доказывается, что эти конструкции необходимы для определения направлений правового развития, формирования образа правовой действительности. Рассмотрены вопросы доктринального прогнозирования и способность правовых доктрин выявлять закономерности, формировать прогнозы и разрабатывать модели устойчивого правового развития публично-правовой сферы.
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Конституционное и муниципальное право № 01/2025 |
| Страницы | 42-44 |
| DOI | 10.18572/1812-3767-2025-1-42-44 |
Постановка проблемы. Осмысление конституционной реформы публичной власти проявилось в том числе и в исследовательском интересе к содержанию категории «конституционная модель публичной власти» (или «конституционно-правовая модель публичной власти»). Принятие или пересмотр конституционных актов зачастую становится «точкой отсчета в переоценке и обновлении существующих правовых моделей или даже утверждении новых конституционно значимых ценностно-правовых конструкций, образуемых совокупностью учредительных правовых принципов, формирующих основы нового конституционного порядка и правовой идентичности соответствующего территориально-правового образования».
В конституционно-правовой литературе в отношении публичной власти и системы публичной власти используется целый ряд категорий и терминов — концепция, доктрина, модель, теория, учение, которые при том, что они отнюдь не однопорядковые, нередко употребляются как близкие по смыслу, до степени смешения. Вместе с тем и отрицать их взаимосвязь было бы неверно, а потому выявление этой взаимосвязи — не только предмет умозрительных рассуждений, но и полезный с практической стороны процесс, в ходе которого появляется надежда решить задачу «наработки адекватного категориально-понятийного аппарата, призванного преодолеть свойственную языку Конституции России и текущему законодательству лексическую неоднородность и многозначность».
В послесловии к одной из работ П.Д. Баренбойм пишет: гипотеза предшествует концепции, концепция предшествует доктрине, и, говоря о правовом государстве, задаемся вопросом — «где мы сейчас: в районе гипотез или концепций?». Введя в этот смысловой ряд категорию «правовая модель», а в разрезе нашего исследовательского интереса — «модель публичной власти», можно поставить вопрос о соотношении конституционной модели и конституционной доктрины. Выбор такой пары правовых категорий, как представляется, требует определённых пояснений. Доктрина понимается нами не только как совокупность теоретических взглядов и учений (здесь, видимо, уместно употреблять термин «академическая доктрина») и не только как документ основополагающего характера, отражающий приоритетность в той или иной сфере, но как систематизированное учение, получившее признание посредством воплощения его положений в программных документах политического характера, нормативных правовых актах, договорных и обычных нормах, решениях органов государственной власти местного самоуправления. Доктрина включает нормативную и интерпретационную составляющие и всегда ориентирована на практику, отражая практическую направленность фундаментальных научных исследований (Т.М. Пряхина). Доктрина не может быть совокупностью умозрительных конструкций, а должна быть воплощена в моделях конкретных конституционных институтов, через реализацию таких моделей доктрина становится инструментом обеспечения конституционной идентичности государства.