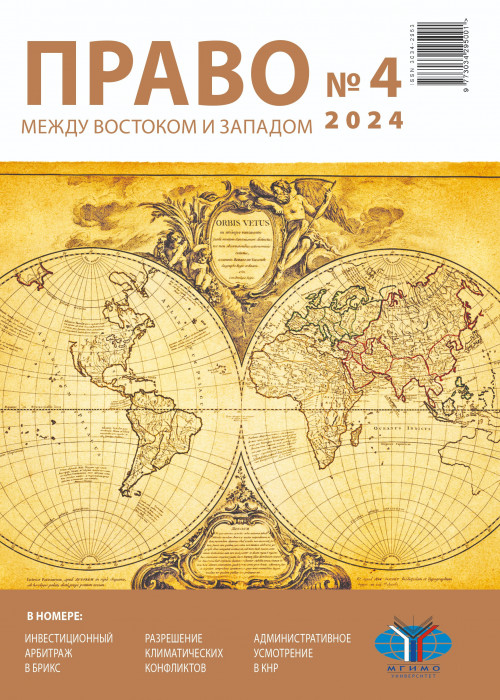Критический анализ стереотипов о федеративном устройстве: контуры новых дискуссий исследователей и практиков государственного строительства в современной России. Часть 2. Советские стереотипы
Аннотация
В настоящем исследовании предпринимается попытка критического осмысления наиболее известных стереотипов о федеративном устройстве, сложившихся в мировой доктрине. С позиций критического реализма анализируются советские стереотипы, основанные на идеализации социальной инженерии и воспроизводящиеся в современной отечественной доктрине, включающие в себя доктринальное разделение федераций на «конституционные» и «договорные», противопоставление территориальных федераций национальным, а также ставшее классическим понимание права народов на самоопределение. Выявленные таким образом проблемы значительно выходят за рамки вопросов федеративного устройства и могут быть обнаружены в других элементах предмета отечественного конституционного права.
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Право между Востоком и Западом № 04/2024 |
| Страницы | 67-75 |
В опубликованной ранее части настоящей работы были рассмотрены либеральные стереотипы о федерализме, характерные для общемировой доктрины федерализма. В отдельный блок стереотипов о федерализме, характерных уже не для общемировой, но для отечественной доктрины, выделяется корпус установок, доставшихся ей в наследство от теории советского федерализма.
II. Советские стереотипы
Советские идеологические установки, так же как и либеральные, претендовали на универсальность во всем мире, не только отражая при этом политические интересы конкретного федеративного государства, но и воплощая более широкие конструктивистские претензии марксизма на построение утилитарного общества. В отличие от чуть менее экспансивной идеологии классического либерализма, умеренно относящейся к социальной инженерии, марксизм делает проектирование идеального будущего своей приоритетной задачей. Поэтому научные взгляды на федерализм важно не только отделять от несвойственных им ценностных установок, но и защитить от приписывания им ложных функциональных или социально-конструктивистских характеристик. Несмотря на провал советского эксперимента, некоторые когнитивные установки, лежавшие в его основе, были в качестве дани традиции восприняты современной российской доктриной и практикой государственного строительства. Советский опыт, равно как и советская теория федерализма, должен исследоваться современными учеными, однако его осмысление должно носить критический, а не априорный характер. Именно поэтому представляется необходимым подвергнуть сомнению ряд азбучных установок, знакомых многим еще из учебных пособий.
Во-первых, необходимо отказаться от классификации федераций на «конституционные» и «договорные». Более полувека для отечественной литературы выделение конституционных и договорных федераций является практически хрестоматийным. При этом примечательно, что в литературе наблюдается отсутствие единства трактовки критерия для этой классификации: одни авторы утверждают, что в ее основу положен способ образования федеративной системы (т.е. федерации, учрежденные сверху, агрегированные, и федерации, учрежденные снизу, дезагрегированные), другие авторы ограничивают применение этой классификации лишь в отношении нормативного способа распределения компетенции между уровнями публичной власти. В ходе осмысления отечественной теории федерализма ряд ученых уже пришел к выводу, что выделение конституционных и договорных федераций не имеет смысла, а некоторые из них даже предлагают возможные альтернативы. Помимо того что подобная классификация не имеет под собой реальных эмпирических и рациональных оснований, поскольку исторически была выработана советскими учеными для преодоления слияния ленинской и сталинской теорий федерализма во времена культа личности, ее применение в практике государственного строительства ставит под угрозу все территориальное единство современной Российской Федерации. Так, исходя из предположения о том, что «договорные» федеративные связи создаются по воле субнациональных единиц и, следовательно, могут быть прекращены ими в одностороннем порядке, становится возможным признание односторонней сецессии субъекта РФ. Принимая во внимание маятниковую динамику развития федеративных отношений и приоритет «ручных», ad hoc, а не институциональных средств их организации, нельзя исключать, что подобная идея может оцениваться как отражающая рациональные чаяния населения отдельных регионов в случае одномоментного ослабления силового начала, до сих пор гарантирующего трактовку России как конституционной, а не договорной федерации. В таком случае сепаратистские силы могут провозгласить Федеративный договор 1992 г. учредительным и в одностороннем порядке признать его для себя недействующим — в момент, когда такая опция станет возможной, уже будет неважно, что подобные утверждения являются совершенно ошибочными с правовой точки зрения. Опыт распада СССР показал нам, что политические резоны, неподкрепленные правовой догмой, а порой вступающие в прямое противоречие с ними, в кризисных ситуациях всегда перевесят правовую догму, не имеющую за собой силовой поддержки. Избавить отечественную практику государственного строительства от подобных лакун полностью — безусловно, задача невозможная, однако представляется, что ученое сообщество должно сделать все для того, чтобы устранить наиболее очевидные противоречия между провальной советской теорией и современной российской практикой.
Во-вторых, аналогичным образом спорно деление федераций на национальные и территориальные. Так же как и предыдущая классификация, выделение национальных и территориальных федераций было обусловлено конкретно-историческими причинами: советским авторам было принципиально показать разницу существовавших буржуазных федераций, основанных на эксплуатации, и федеративного союза свободных от эксплуатации этнических групп. Оправданная политическими целями момента, эта классификация в данный момент утратила свою актуальность, поскольку Россия, став на путь либеральной демократии, стала одной из буржуазных федераций, критикуемых советской теорией социалистической федерации, что делает ее аргументы неприменимыми в современной доктрине. Кроме того, анализ мировой практики федеративного строительства рисует более сложную, мозаичную картину этнического федерализма: в некоторых «территориальных» федерациях, например в США, этнический фактор может учитываться при осуществлении власти муниципалитетами. С другой стороны, не все этносы в «национальных» федерациях вроде Индии, Непала, Нигерии и Эфиопии являются титульными и организованы в соответствующие территориальные образования. При этом лишь в некоторых «национальных» федерациях (Бельгия, Босния и Герцеговина) этнический фактор лежит в основе организации и деятельности всех институтов публичной власти, в то время как большинство федераций ограничиваются лишь предоставлением отдельным территориальным образованиям большей компетенции или доли представительства в соответствующих федеральных органах. Таким образом, доктринальное признание федерации «национальной» не влечет за собой решительно никаких правовых последствий, качественно отличавших политико-правовую связь ее субъектов от аналогичной связи между субъектами «территориальной» федерации. Сказанное не отменяет необходимости дальнейшего изучения этнических федераций и их особенностей, проведения сравнительных исследований для выявления закономерностей их развития.