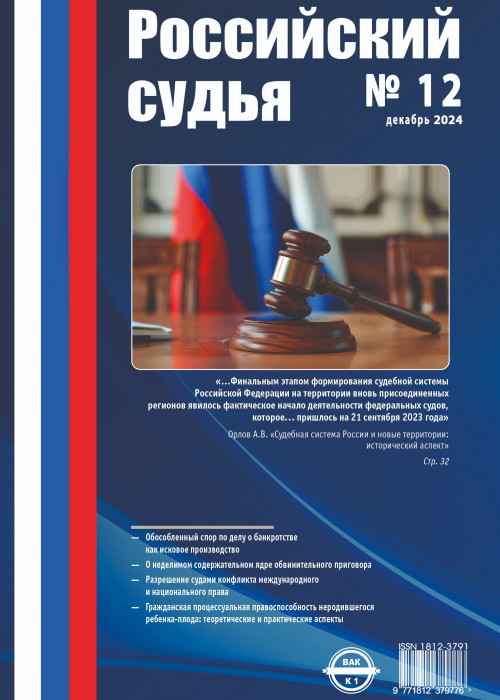К дискуссии о категории совести как критерии оценки доказательств
Аннотация
В статье рассматривается категория совести, отраженная законодателем в ст. 17 Уголовнопроцессуального кодекса РФ в качестве критерия оценки доказательств. Разделяется мнение ученых об особой значимости ее закрепления в законе. Подвергаются критической оценке негативные высказывания ученых в адрес законодателя по поводу способа закрепления данной категории в законе, которые, по мнению автора, нельзя оставлять без внимания и опровержения. Делается вывод, что закрепление понятия «совесть» в законе наряду с понятием «внутреннее убеждение», предполагающим личную оценку доказательств, собственный вывод об обстоятельствах дела, призвано отражать, что уголовно-процессуальные решения должны принимать только люди с высокими мировоззренческими позициями, высоким уровнем и культуры, и интеллекта.
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Российский судья № 12/2024 |
| Страницы | 38-43 |
| DOI | 10.18572/1812-3791-2024-12-38-43 |
В уголовно-процессуальных законах молодой советской республики 1922 и 1923 гг. понятие «оценка доказательств» упоминалось лишь однажды в ст. 323 и 319 соответственно, при этом правило, на основании которого такая оценка должна была производиться, согласно положениям указанных норм, адресовалось исключительно суду, а эти нормы были размещены в главах, регламентирующих вопросы вынесения приговора. Таким правилом являлось формирование судом внутреннего убеждения на основании рассмотрения всей совокупности имеющихся в деле и рассмотренных в суде доказательств. По поводу же того, каким образом должны были оцениваться полученные в ходе производства по делу доказательства иными властными участниками судопроизводства (органами предварительного расследования и прокурором), уголовно-процессуальное законодательство того времени никаких предписаний не содержало.
В следующем уголовно-процессуальном законе — Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) РСФСР 1960 г. норма об оценке доказательств была включена в гл. 5 «Доказательства», в связи с этим она получила свое распространение на всех властных участников уголовного судопроизводства, ответственных за производство по уголовному делу, — суд, прокурора, следователя и лицо, производящее дознание. Стоит отметить, что главным достоинством ст. 71 УПК РСФСР являлось указание на необходимость опоры при оценке доказательств на основополагающий принцип познания — принцип всесторонности, полноты и объективности, о возвращении которого в нормы действующего УПК РФ правомерно ратуют многие ученые. По их мнению, данный принцип является не только правовым, но и нравственным требованием, предъявляемым к уголовно-процессуальному доказыванию, означающим непредвзятость, беспристрастность и добросовестность лиц, осуществляющих оценку доказательств.
Кроме этого, в указанной норме впервые в истории российского уголовно-процессуального законодательства нашли отражение критерии оценки доказательств, влияющие на формирование внутреннего убеждения правоприменителя, в качестве которых законодателем были указаны закон и социалистическое правосознание.
В свою очередь, в действующем уголовно-процессуальном законе такими критериями стали закон и совесть оценивающего доказательства уполномоченного лица. При этом стоит отметить, что на постсоветском пространстве российский уголовно-процессуальный закон не является единственным, где в качестве критериев оценки доказательств отражена совесть. В частности, совесть в таком качестве закреплена в УПК Республики Казахстан, в норме-принципе (ст. 25), а в УПК Кыргызской Республики дважды — и в норме-принципе (ст. 23), и в норме, размещенной в главе «Доказывание» (ст. 93). При этом считаем важным указать на то, что если в ст. 25 УПК Республики Казахстан для властных участников уголовного судопроизводства закреплены два критерия, которыми они должны руководствоваться при оценке доказательств, — закон и совесть, то для присяжных заседателей только один — совесть. Думается, что подобное отличие является правильным и с теоретической, и практической позиций, поскольку присяжные не являются профессиональными участниками процесса, для которых знание закона обязательно, поэтому требовать от присяжных руководствоваться законом при принятии решений неправомерно.