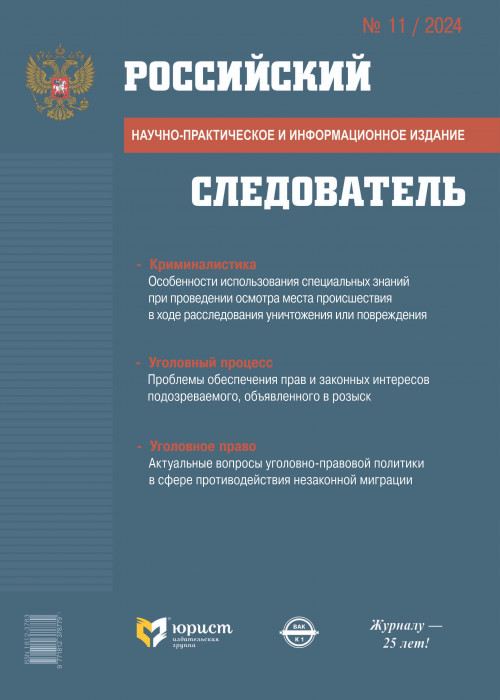Отражение в нормах Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации отдельных положений его Общей части как нарушение системной когерентности: диалог-дискуссия
Аннотация
Статья посвящена изучению отражения в нормах Особенной части УК РФ отдельных положений его Общей части через призму нарушения системной когерентности. Авторы, избрав форму изложения материала в виде диалога-дискуссии, последовательно высказывают собственную точку зрения по различным аспектам представительства в статьях Особенной части УК РФ норм об организации, подстрекательстве, пособничестве и о неоконченном преступлении (наименование, уголовно-правовая оценка, конструирование). В заключение по данным аспектам сделаны выводы, отмечаются проблема несовершенства общих нормативных положений о видах соучастников преступления и институте неоконченного преступления, необходимость их модернизации.
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Российский следователь № 11/2024 |
| Страницы | 40-45 |
| DOI | 10.18572/1812-3783-2024-11-40-45 |
Структура данной статьи строится на основе диалоговой формы. Последняя видится наиболее эффективной при обсуждении актуальных проблем, поскольку позволяет сопоставить как минимум две точки зрения по тем или иным их аспектам, стимулируя мыслительную деятельность читателя, переходящего в разряд собеседника.
Диалог с греческого (Διαλογος) переводится как разговор или беседа. В широком научном понимании данный термин означает обмен репликами между двумя или более собеседниками, являясь особой формой организации обмена информацией, в том числе в письменном виде. Дискуссия, в свою очередь (от лат. discussio — рассмотрение, исследование), представляет собой одну из форм диалога. Ее суть, как отмечает Н.И. Сперанская, сводится к последовательному высказыванию точек зрения по единой теме для достижения максимально возможной степени согласия. Вместе с тем представляется, что общность точек зрения может и не стать итогом дискуссии, что связано, например, с исследованием противоречивой и достаточно полемичной проблематики, каковой и является тема отражения отдельных нормативных положений Общей части УК РФ в его Особенной части. Однако это вовсе не означает, что авторы данной статьи категоричны в своих мнениях и не способны принимать совместные решения. Напротив, целью их интеракции выступают определение истины в поставленном вопросе, поиск решения проблемы.
Означенная проблема связана главным образом с представительством в статьях Особенной части УК РФ норм об организации, подстрекательстве и пособничестве, а также о неоконченном преступлении, имеющих генетическую связь с положениями о видах соучастников преступления (ст. 33 УК РФ) и института неоконченного преступления (ст. 29 УК РФ). На сегодняшний день таковых в российском уголовном законе насчитывается более 40, однако до сих пор в науке уголовного права не сложилось единого их восприятия.
М.Л. Прохорова: Существует точка зрения, согласно которой указанные случаи следует именовать фактическими деяниями иных соучастников, фактическим неоконченным преступлением (фактическими приготовлением и покушением).
М.Г. Горенко: Позволю себе не согласиться с данным мнением, поскольку считаю, что термин «фактический», употребляемый в отношении деяний иных соучастников в статьях Особенной части УК РФ, не в полной мере индивидуализирует данную группу правовых норм. С позиции семантики «фактический» означает «представляющий собою факт», «действительный, подлинный, существующий на деле, оправдываемый фактами». Но ведь факт, действительность, существование и т.д. проявлений организаторства, подстрекательства и пособничества, элементов неоконченного преступления в статьях Особенной части УК РФ никто не отрицает. Другое дело, что в данном случае не подчеркивается исключительная обособленность деяний организатора, подстрекателя и пособника, признаков неоконченного преступления в указанной части кодекса, как это делается в случае использования понятия «специальные виды», ибо слово «специальный» по правилам русского языка означает «особый, отдельный, не общий, исключительно для чего-нибудь предназначенный». Данная позиция, надо отметить, находит свою поддержку и в уголовно-правовой науке.