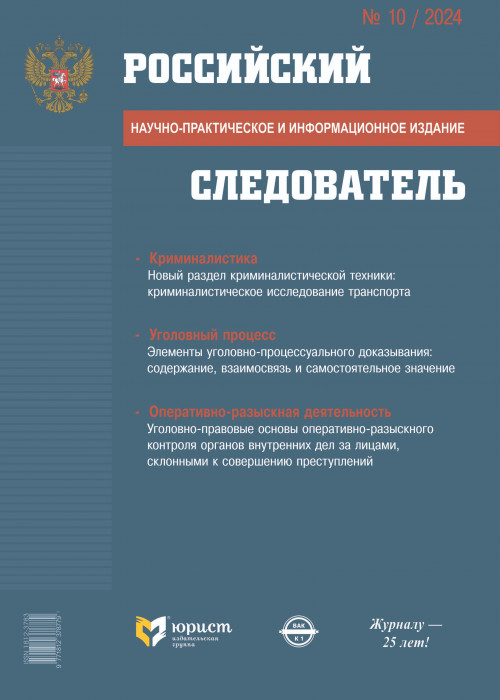Начало преступления
Аннотация
В статье исследуется проблема определения начала преступления как критерий разграничения приготовления и покушения, а также ключ к ряду вопросов квалификации. Установление четкой границы между созданием условий для посягательства и действиями, направленными на его совершение, помимо определения стадии реализации преступного умысла, необходимо для решения вопросов соучастия, множественности преступлений, а также разграничения посягательств, предусмотренных разными статьями УК РФ. С учетом разъяснений Конституционного и Верховного Судов РФ проанализированы сложные правоприменительные ситуации, в которых для правильной квалификации было необходимо отграничить действия, непосредственно направленные на совершение преступления, от создания условий для посягательства. Обоснован тезис о невозможности формулирования универсального критерия, описывающего «действия, непосредственно направленные на совершение преступления». Такое положение, с одной стороны, объяснено особенностями реальных посягательств и избираемых законодателем технических приемов описания их объективной стороны, а с другой — предложено исследовать и учитывать указанные факторы при квалификации.
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Российский следователь № 10/2024 |
| Страницы | 21-26 |
| DOI | 10.18572/1812-3783-2024-10-21-26 |
Уголовный закон, определив оконченное преступление как деяние, содержащее все признаки соответствующего состава, не уточнил, что считать началом посягательства. При квалификации не всегда просто отличить создание условий для совершения преступления от действий, непосредственно направленных на его совершение. Установление этапа реализации преступного умысла имеет значение для решения целого ряда вопросов квалификации и особенно важно для посягательств, которые «…не относятся к числу тяжких или особо тяжких, а, стало быть, приготовление к ним ненаказуемо». «Разграничение приготовления к преступлению, покушения на преступление и оконченного преступления производится по признакам объективной стороны соответствующего деяния. При этом совершение действий, образующих лишь часть объективной стороны, признается покушением на соответствующее преступление». «Действие начинается с момента совершения первого осознанного и волевого телодвижения, обладающего общественной опасностью и противоправностью». Применить универсальный критерий, согласно которому граница между приготовлением к совершению преступления и покушением проходит там, где виновный начинает выполнять объективную сторону, в отдельных случаях затруднительно. Это обусловлено как особенностями конструкции различных составов, так и обстоятельствами конкретных посягательств.
Например, судом первой инстанции действия участников организованной группы были квалифицированы как приготовление к разбою. При апелляционном рассмотрении дела признанный потерпевшим охранник интернет-кафе посчитал разбой оконченным, так как «…видел нападавших на расстоянии 3‒4 метров… в их руках были предметы, похожие на пистолеты, они были в масках, действия нападавших были активными, в связи с чем… опасался за свою жизнь; полагает, действия подсудимых создавали реальную угрозу применения насилия к потерпевшему…» В апелляционном определении суд указал, что виновные «…прибыли к месту совершения преступления… скрыв лица масками, вооружившись газовым пистолетом, а также пневматическим пистолетом, ожидали момент выхода М.Б. из интернет-кафе, который являлся сигналом для нападения. М.Б. в это время находился внутри интернет-кафе и наблюдал за обстановкой. Когда М.Б., выбрав благоприятный для нападения момент, вышел, [преступники] побежали к двери помещения, однако их действия заметил охранник… Поняв, что совершается нападение… [охранник] успел закрыть дверь, после чего осужденные не смогли проникнуть внутрь и скрылись с места преступления.
Таким образом, — определил суд, — действия нападавших подлежат оценке как покушение на разбой, поскольку, получив сигнал и побежав к двери интернет-кафе, они приступили к выполнению объективной стороны преступления, но не довели свой преступный умысел на совершение разбоя с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья до конца по независящим от них обстоятельствам». В приведенном примере виновные не только прибыли к месту разбоя, но и фактически приступили к нападению.
В другом случае суд апелляционной инстанции, вопреки позиции адвоката потерпевшей, оставил без изменения квалификацию действий виновного как приготовление к убийству. Бывший супруг, вооруженный топором «и собакой бойцовской породы» на почве конфликта по поводу возможности общения с детьми «…с целью реализации умысла на причинение смерти [потерпевшей], проследовал к зданию медицинской клиники… зная, что в это время потерпевшая находится там, то есть создал тем самым условия для совершения ее убийства. Однако не смог довести до конца свой преступный умысел по независящим от него обстоятельствам, поскольку его действия, направленные на убийство… уже на данной стадии были пресечены [охранником]…». «Согласно показаниям потерпевшей… [и охранника], [преступник] был агрессивно настроен, поскольку, увидев [охранника], преградившего ему вход в клинику, натравил на последнего собаку, в результате чего свидетель был вынужден произвести выстрел из имеющегося при нем пистолета. Кроме того, несмотря на требования [охранника] остановиться… [преступник] продолжил свое движение в сторону входа в клинику и остановился только после того, как [охранник] запер дверь. При этом [преступник] был вооружен топором, вел с собой собаку...». В приведенном примере виновный был остановлен при следовании к месту совершения преступления. В отличие от предыдущего случая, когда потерпевшим от начинающегося разбоя был признан охранник кафе, закрывший дверь перед нападавшими, агрессивные действия преступника в отношении охранника медицинского учреждения нельзя рассматривать в качестве части объективной стороны запланированного им убийства. Таким образом виновный пытался устранить препятствие, которое возникло при следовании к месту совершения преступления. В свою очередь, образующее разбойное нападение насилие может быть применено как к собственнику похищаемого имущества, так и к другим лицам.