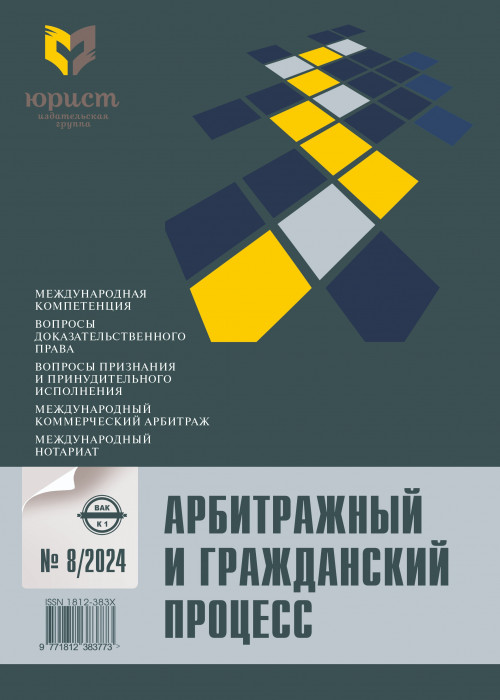Компетенция российских судов по делам о субсидиарной ответственности
Аннотация
В статье рассмотрены последствия дифференциации производств по делам о банкротстве на основные и вторичные для определения характера компетенции российских судов на разрешение дел о привлечении к субсидиарной ответственности. Обосновано, что российский суд может разрешать такие споры как в деле о банкротстве, так и вне дела о банкротстве, даже если в отношении иностранного должника на территории России может быть введена только вторичная процедура банкротства.
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Арбитражный и гражданский процесс № 08/2024 |
| Страницы | 15-18 |
| DOI | 10.18572/1812-383X-2024-8-15-18 |
Определением от 8 февраля 2024 г. № 305-ЭС23-15177 (далее — Определение от 8 февраля 2024 г.) Верховный Суд Российской Федерации значительно изменил подход национального правопорядка к трансграничной несостоятельности, не только подтвердив возможность признания несостоятельными зарегистрированных за рубежом юридических лиц, но и дифференцировав банкротные производства на основные и вторичные.
Предложенная Верховным Судом Российской Федерации модель трансграничной несостоятельности имеет общие черты с регулированием, предлагаемым Типовым законом ЮНСТИРАЛ 1997 г. о трансграничной несостоятельности, в отдельных частях основана на непринятом законопроекте о трансграничной несостоятельности 2011 г. и, что неизбежно в случае столь существенного изменения в правовом регулировании посредством определения высшего суда по конкретному делу, содержит пробелы и неясности. Например, возникли сомнения по поводу того, не исключил ли Верховный Суд Российской Федерации возможность участия в российском вторичном производстве иностранных кредиторов должника, указав в п. 2.3 Определения от 8 февраля 2024 г., что целью введения вторичного производства является обеспечение защиты интересов российских кредиторов. Поскольку защита местных кредиторов — первая цель любого локального производства и ее достижение обеспечивается возбуждением национального дела о банкротстве, но не ограничением права иностранных кредиторов участвовать в нем, комментируемое положение следует толковать лишь как политико-правовое обоснование появления в российском праве вторичных производств в принципе. Но отсутствие закона и прямых ответов практики позволяет и этот вопрос — казалось бы, затронутый в комментируемом определении — отнести к числу спорных. Тем более нельзя считать ясными вопросы, в отношении которых практика еще не высказалась вовсе. В их числе — правила о компетенции российских судов по делам о субсидиарной ответственности в свете дифференциации производств по делам о несостоятельности.
1. Споры в деле о банкротстве
Поскольку основное производство осуществляется по Закону о банкротстве без каких-либо изъятий, правила о субсидиарной ответственности (в том числе о компетенции национальных судов) подлежат безусловному применению. В этом случае различий между производством по делу о банкротстве зарегистрированного в России лица и иностранной компании, чей центр основных интересов расположен в России, нет. Более того, последовательным стало бы превращение факта регистрации компании в России из самостоятельного основания компетенции российского суда в основание презумпции местонахождения центра основных интересов, как это реализовано в п. 3 ст. 16 Типового закона 1997 г. В результате только вид производства — основное или вторичное — определял бы доступный суду объем полномочий, в том числе на разрешение обособленных споров того или иного вида.
Из п. 2.3 Определения от 8 февраля 2024 г. следует, что вторичное производство направлено на распределение между кредиторами локальной имущественной массы должника. Буквально это препятствует рассмотрению судом в рамках вторичного производства требования о привлечении к субсидиарной ответственности, поскольку оно — как требование из деликта контролирующего лица против кредиторов — не входит в конкурсную массу, принадлежит кредиторам, а не самому должнику. Однако вряд ли такое толкование соответствует замыслу Верховного Суда Российской Федерации.