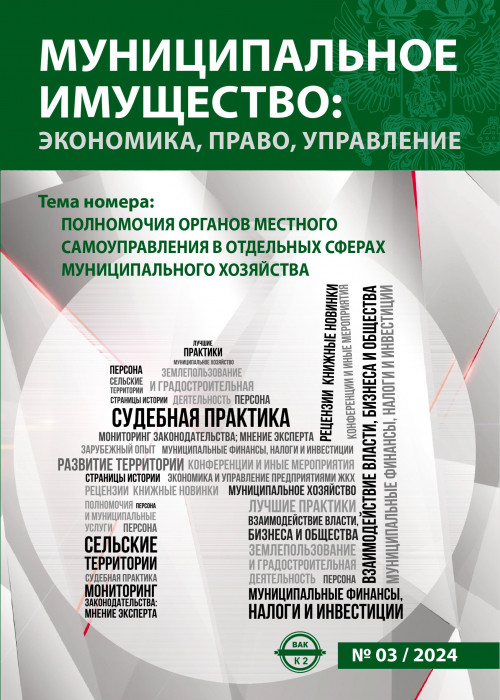Правотворческие стратегии в сфере муниципально-территориального и пространственного развития: вопросы гармонизации
Аннотация
Работа посвящена осмыслению вопросов муниципально-территориального и пространственного развития в контексте концепции правотворческой стратегии. Автор определяет последнюю как особую коммуникативную модель организации правотворчества, обеспечивающую последовательное конструирование желаемого будущего. Рассматриваются основные этапы правотворческой стратегии в их применении к муниципально-территориальному развитию, которое автор считает неотъемлемой частью пространственного развития. Обосновывается тезис о необходимости гармонизации подходов к муниципально-территориальному устройству и определению опорных населенных пунктов в ходе разработки стратегии пространственного развития России на период до 2030 г.
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Муниципальное имущество: экономика, право, управление № 03/2024 |
| Страницы | 21-25 |
| DOI | 10.18572/2500-0349-2024-3-21-25 |
После принятия Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 131-ФЗ) муниципальное законодательство развивалось по ad hoc сценарию путем тактического реагирования на изменение социальной ситуации. За двадцать лет по состоянию на июнь 2024 г. приято ровно 200 федеральных законов, вносящих изменения в названный Закон. При этом большинство изменений являются локальными, касаются одной или нескольких норм Федерального закона № 131-ФЗ, реже — отдельного муниципально-правового института. Их логика и последовательность не подчинены единой стратегии муниципального развития.
Приведем лишь один свежий пример. В феврале 2023 г. в ст. 271 Федерального закона № 131-ФЗ внесено изменение, в силу которого староста сельского населенного пункта может назначаться по инициативе сельского схода не только из числа граждан, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом, но также из числа граждан, достигших 18 лет и имеющих в собственности жилое помещение, расположенное на территории данного сельского населенного пункта. Интересно, что данное положение попало в текст соответствующего законопроекта только во втором чтении, будучи внесенным в качестве поправки. Соответственно, мотивы его принятия в пояснительной записке отсутствуют.
Спустя год, в июне 2024 г. Государственной Думой принят федеральный закон, в соответствии с которым участниками схода граждан по вопросу выдвижения кандидата в старосты сельского населенного пункта могут быть не только избиратели, зарегистрированные в этом населенном пункте, но также совершеннолетние собственники жилых помещений на его территории, если это предусмотрено муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. То есть собственники жилых помещений получили наряду с жителями не только «пассивное», но и «активное избирательное право» в вопросе выдвижения старосты. При этом участие в других формах непосредственного осуществления местного самоуправления (например, в территориальном общественном самоуправлении) по-прежнему доступно только постоянным жителям муниципалитета.
Казалось бы, локальный пример, но, на наш взгляд, он весьма наглядно свидетельствует о необходимости концептуального осмысления законодателем будущего российской модели местного самоуправления. В силу действующего закона муниципальное образование постулируется как публично-территориальный коллектив, состоящий из граждан, объединенных общностью места жительства. Означают ли приведенные выше изменения корректировку подхода, в силу которого административный акт регистрации является базовой (и, по сути, единственной в публично-правовом смысле) презумпцией места жительства? Допускается ли одновременное участие в осуществлении местного самоуправления в нескольких муниципальных образованиях? Является ли это началом движения к заявительной модели участия в осуществлении местного самоуправления?