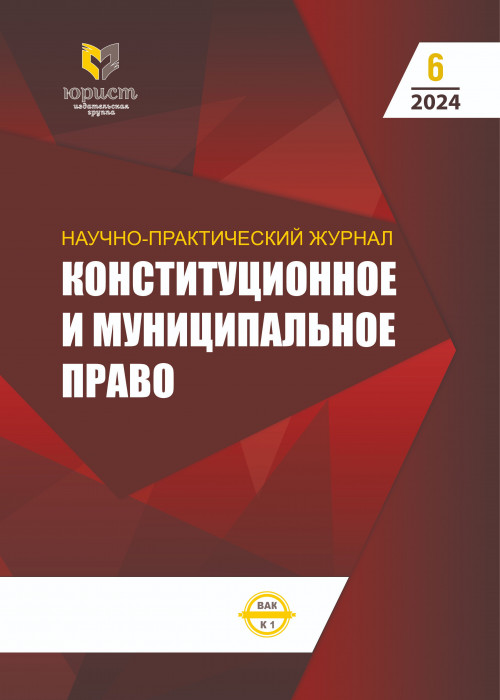Принцип суверенитета в конституционной истории Испании
Аннотация
Статья посвящена значению принципа суверенитета в конституционной истории Испании, эволюции его содержания, особенностям законодательного оформления его видов, выделенных в правоведении по содержательным элементам и субъектам. Автор статьи отмечает остроту проблемы выбора носителя учредительного суверенитета (ассоциировался с правом принимать конституцию) в XIX в.; таковым признавали нацию, короля, одновременно нацию (в лице кортесов) и короля, и он определял выбор субъекта учрежденного суверенитета (отождествлялся с верховной, законодательной властью). Показано неодинаковое отношение к суверенитету на различных этапах испанской истории в XX в. Автор статьи приходит к выводу о том, что актуализация практических задач государственного строительства в республике с региональной автономией, строго централизованном испанском государстве, королевстве с автономными сообществами сконцентрировала внимание учредителей на государстве как носителе суверенитета, на разработке организации его осуществления через систему государственных органов.
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Конституционное и муниципальное право № 06/2024 |
| Страницы | 54-58 |
| DOI | 10.18572/1812-3767-2024-6-54-58 |
Принцип суверенитета в Испании в XIX в. Значение идеи суверенитета в конституционной истории трудно переоценить. В последнее время в отечественном правоведении его проблематика актуализирована в связи с разработкой, прежде всего, теоретических и практических аспектов государственного суверенитета, и они могут быть обогащены анализом историко-правового опыта.
В рамках данной статьи рассмотрено значение суверенитета в политико-правовой истории Испании. Мощным стимулом для его актуализации явилась национально-освободительная война испанского народа, покинутого его правителями, против наполеоновской Франции. В сложившейся обстановке фактически претензии на суверенитет обнаружили три субъекта: король Хосе Бонапарт, «дарованный» французами, испанский народ, генеральные и чрезвычайные кортесы, объявившие себя носителями национального суверенитета. Все они аргументировали право на верховную власть наличием «исключительных, почти божественных» оснований. Возникшая конкуренция способствовала осмыслению представлений о содержании, субъекте, видах суверенитета. Она обострилась в связи с созывом 24 сентября 1810 г. генеральных и чрезвычайных кортесов, принявших первую национальную конституцию в 1812 г.
Главными источниками данной деятельности стали разработки выдающегося мыслителя и государственного деятеля Ховельяноса и конституционное законодательство соседней Франции революционного и наполеоновского времени, отразившее рациональный подход к политической власти, абстрактный характер суверенитета. При этом учение Ж. Бодена, хорошо известное депутатам, как отметил испанский конституционалист, может быть полезным лишь для «лучшего понимания этой концепции» в Испании.
В лексиконе Ховельяноса имели место два термина: национальный суверенитет (soberanía nacional) и политический суверенитет (soberanía política). Носителем первого признавалась нация, которая имела «верховное, первоначальное и неотъемлемое право ˂…˃ сохранять и защищать свою конституцию», поэтому он проявлялся в осуществлении законодательной власти. Политический суверенитет связывался с королем, наделенным «независимой и высшей властью по руководству общей деятельностью и ассоциировался с исполнительной властью». По мнению Ховельяноса, нация не может отменить сформировавшуюся историческую конституцию, но лишь реформировать ее. Не согласившись с этим, генеральные и чрезвычайные кортесы решительно признали учредительную власть нации, закрепив в тексте Конституции 1812 г.: «Суверенитет по существу принадлежит нации, и поэтому исключительно ей принадлежит право устанавливать свои основные законы» (ст. 3). Впоследствии данное положение рассматривалось как описание учредительного суверенитета, а в наши дни – как внутренняя сторона суверенитета. Его внешняя сторона отражена в положении о свободе и независимости испанской нации, которая «не является и не может быть предметом собственности какой-либо семьи или отдельного лица» (ст. 2).