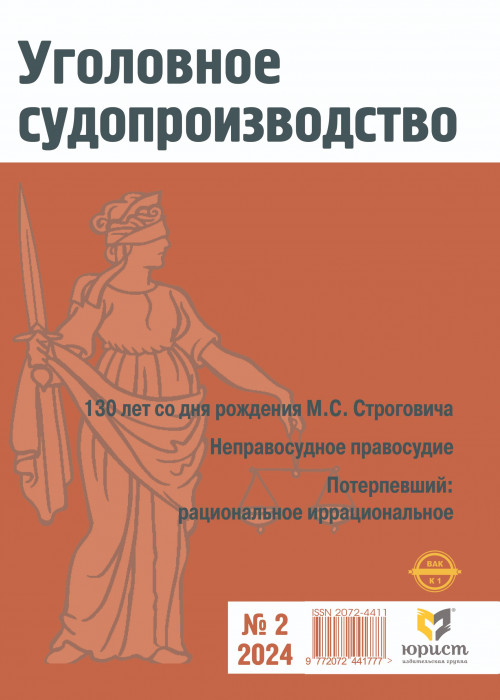Общественная опасность деяния
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы феномена общественной опасности, которая присуща преступлению. Предлагаются характеристики общественной опасности преступления, которые позволяют отличить преступное деяние от непреступного. Основной акцент при определении общественной опасности преступления сделан на ценностных свойствах охраняемого блага. В итоге рассуждений об общественной опасности преступления предлагается дефиниция рассматриваемого предмета.
| Тип | Статья |
| Издание | Уголовное судопроизводство № 02/2024 |
| Страницы | 35-40 |
| DOI | 10.18572/2072-4411-2024-2-35-40 |
Считаю необходимым, прежде чем приступить к позитивному изложению материала, сделать предуведомление. Предуведомление касается причин, побудивших меня взяться за тему, достаточно подробно исследованную авторами. Таковой причиной является одна — исповедание принципа «капля долбит камень». Я имею в виду нашего законодателя, для которого, как представляется, необходимо такое количество капель, чтобы возникла надежда на его разумное реагирование по поводу филиппик, воззваний, восклицаний, мольбы исследователей, прислушаться к доводам специалистов по поводу криминализации. Предлагаемая статья (выступление) — очередная капля в той череде потока, который, может быть, в конце концов раздолбит камень непонимания, а скорее ангажированности.
Тот факт, что право теснейшим образом связано с ценностями, вряд ли нуждается в доказательствах. Концепции преступления, представленные в юридической литературе современной и прошлых веков, ничуть не колеблют это фактологическое обстоятельство, а, напротив, только подтверждают его. Преступление как нарушение права, как нарушение обязанностей, закона, нормы права, жизненного интереса и т.д. — все это свидетельствует только о том, что концептуальные онеры соответствующего представления рассматривались не иначе как ценности, ибо в противном случае можно было бы усомниться в целесообразности теоретических построений. Но концепции преступлений, предлагая ценностный подход к криминализации деяний, нисколько не разграничивали опасность уголовных, гражданско-правовых, административных деликтов, а без такого разграничения процесс криминализации может быть ущербным, поскольку станет претендовать либо на законодательство Драконта, который хотел «подчинить» смертной казни все правонарушения, либо на законодательство лакун, в котором отсутствуют важные нормативные запреты. Поэтому для обоснования справедливости признания деяния преступлением нужно прежде всего определиться в понимании общественной опасности и затем установить те ее масштабы, которые необходимы для репрессивного законодательства.
Разумеется, каждая отрасль права репрессивна в той или иной степени, но уголовное право отличается особой репрессивностью, которая заключается не столько в жестких наказаниях, сколько в стигме «преступник», которая преследует раз оступившегося всю его жизнь, несмотря на погашение или снятие судимости: социальные последствия судимости в виде неудобств различного вида (отказ в престижной работе, невозможность претендовать на государственную должность, этические неудобства и т.п.). В силу своей сугубой репрессивности уголовный закон не может претендовать на широкий масштаб деяний, нуждающихся в его охране, а должен брать под свою эгиду лишь такие нарушения, которые непременно нуждаются именно в его особо репрессивных регулятивных свойствах. На это обстоятельство обращал внимание, в частности, Конституционный Суд РФ, который в своем определении от 10 июля 2003 г. № 270-0 подчеркнул, что уголовный закон, будучи в силу своей правовой природы крайним средством, с помощью которого государство осуществляет реагирование на факты правонарушающего поведения, распространяет свое действие лишь на те сферы общественных отношений, регулирование которых с помощью правовых норм иной отраслевой принадлежности, в том числе норм, устанавливающих административную ответственность, оказывается недостаточным. Таким образом Конституционный Суд РФ особо подчеркнул, что уголовный закон есть крайнее средство воздействия на социальную несправедливость, поэтому не каждый повод является основанием для беспокойства самого репрессивного правового аппарата из ныне действующих, что означает: далеко не по каждому поводу нужно создавать уголовно-правовую норму. К поводам криминализации должна относиться прежде всего такая степень общественной опасности деяния, унять проявление которой не в состоянии нормы другой отраслевой принадлежности. Кстати, в Библии, на которую все мы, и Конституционный Суд в частности, подсознательно (архетипически) ориентируемся, это положение выглядит в заповеди так: «Не вари козленка в молоке матери его». То есть, в принципе, козленка варить можно, но не нужно его приготовлять в материнском молоке.