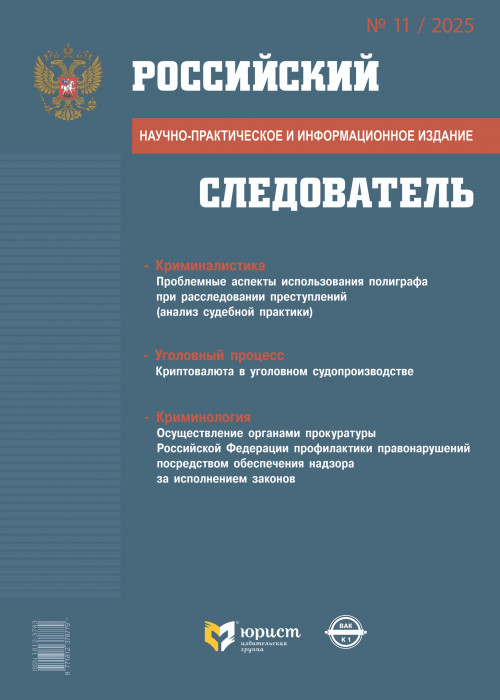Концептуальная дихотомия понятий «вина» и «виновность» в современном российском уголовном процессе: теоретико-правовой анализ и проблемы правоприменения
Аннотация
В статье исследуется фундаментальная теоретико-правовая проблема разграничения понятий «вина» и «виновность» в современном российском уголовном процессе. Авторы анализируют концептуальные противоречия, возникающие вследствие отсутствия легальных определений данных категорий в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах Российской Федерации. Особое внимание уделяется проблемам правоприменения, связанным с неопределенностью нормативных формулировок ст. 73, 299 и 302 УПК РФ. Авторы выявляют существование двух основных доктринальных подходов к пониманию виновности: «широкого», охватывающего совокупность всех обстоятельств для осуждения лица, и «узкого», ограничивающегося установлением причастности лица к преступлению. Анализируется влияние концептуальной неопределенности на судебную практику, включая проблемы мотивировки приговоров и реализации принципов состязательности и презумпции невиновности. Авторы обосновывают необходимость четкого разграничения доказывания факта совершения деяния и установления виновности лица для обеспечения справедливого судебного разбирательства.
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Российский следователь № 11/2025 |
| Страницы | 16-21 |
| DOI | 10.18572/1812-3783-2025-11-16-21 |
Развитие научной доктрины существенно изменяет представления о правовой природе таких категорий, как «вина» и «виновность», выявляя принципиальные различия между понятиями «вина» и «виновность», которые традиционно рассматривались как взаимозаменяемые или близкие по содержанию. Эти различия требуют переосмысления устоявшихся представлений и создают фундаментальную теоретическую проблему, имеющую серьезные практические последствия для правоприменения.
Как справедливо отмечается, учение о вине в современной российской науке уголовного права находится на этапе поиска новых концептуальных решений, что подтверждается исследованиями, направленными на поиск, к примеру, новой концепции вины, способной преодолеть существующие доктринальные противоречия.
Полагаем, что корень всех проблем главным образом заключается в том, что Уголовно-процессуальный кодекс РФ напрямую не определяет понятия «виновность», а Уголовный кодекс РФ — понятия «вина», хотя оба источника активно используют их в ключевых нормах. Вина — категория материального права, описанная в УК РФ через формы умысла и неосторожности (ст. 24–28 УК РФ), но без прямого легального определения. Под ней традиционно в уголовно-правовой доктрине понимается психическое отношение лица к своему деянию и его последствиям. Виновность же — категория уголовно-процессуальная, фигурирующая во многих нормах УПК РФ (ст. 14, 73, 299, 302 и др.) также без законодательной дефиниции.
Одни авторы подчеркивают, что существует острая необходимость законодательного закрепления понятия вины в уголовном праве России. Другие обоснованно указывают на концептуальные проблемы вины в действующем УК РФ. Третьи в своих исследованиях демонстрируют юридическое содержание вины и виновности и отмечают, что понятие виновности как уголовно-процессуальной категории в УПК РФ также нормативно не закреплено, что изначально создает проблему правовой определенности и порождает путаницу в правоприменении.
Эта фундаментальная неопределенность наиболее ярко проявляется в формулировках ст. 299 УПК РФ, которая перечисляет вопросы, подлежащие разрешению судом при постановлении приговора, включая: доказано ли событие (деяние) преступления, совершил ли его подсудимый, и виновен ли подсудимый в совершении этого преступления. Презумпция невиновности как фундаментальный принцип российского уголовного процесса требует, чтобы виновность обвиняемого была доказана в установленном порядке, прежде чем лицо может быть осуждено. Однако анализ норм УПК РФ, регулирующих постановление приговора, выявляет концептуальные противоречия в понимании того, что именно должно быть доказано. Так, ст. 299 УПК РФ создает терминологическую неопределенность: первые два вопроса поставлены как «доказано ли...», тогда как вопрос о виновности сформулирован как «виновен ли подсудимый...» без явного указания на доказанность. Такая формулировка порождает теоретическую дилемму, имеющую не только академический, но и практический характер: является ли установление факта совершения деяния автоматическим доказательством виновности лица либо же виновность требует самостоятельного доказывания, отдельного от факта деяния. От решения данной проблемы зависит реализация и итог правоприменительной деятельности по уголовным делам.