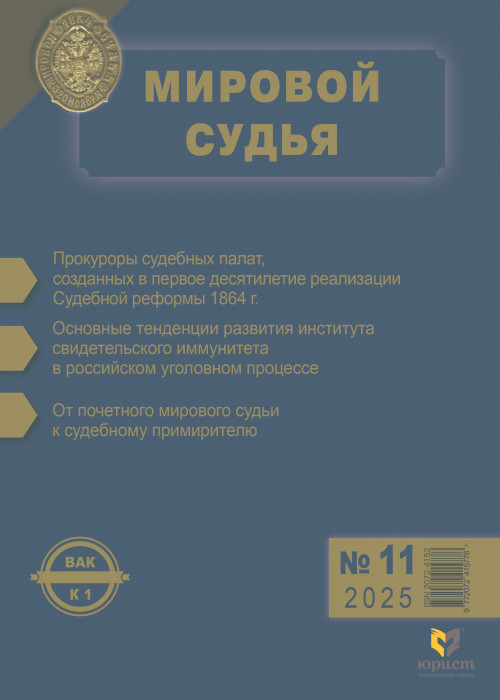К вопросу о терминологической перегрузке норм Уголовного кодекса Российской Федерации в контексте преступлений, связанных с цифровой информацией
Аннотация
Обсуждение проблемы избыточной терминологии в статьях Уголовного кодекса Российской Федерации актуально в свете деяний, связанных с цифровыми данными. Сложность и многословность юридической лексики, используемой в законодательных актах, научных трудах затрудняет понимание и применение норм, касающихся преступлений в сфере информационных технологий. Авторы на основе проведения законодательного и научного толкования приходят к выводу о необходимости введения единого термина «цифровая информация», в связи с чем предлагаются изменения в отдельные нормы Уголовного кодекса РФ с целью выработки единообразного терминологического применения.
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Мировой судья № 11/2025 |
| Страницы | 8-12 |
| DOI | 10.18572/2072-4152-2025-11-8-12 |
Стремительное развитие цифровых технологий и потребность их правового регулирования становится неотъемлемой частью обеспечения безопасности в информационном пространстве, которое, наряду с благом, зачастую таит в себе опасность для человека, общества и государства. Терминологическая ясность в законодательных актах — элемент, от которого зависит эффективность правоприменения. В условиях, когда преступления, связанные с цифровой информацией, становятся все более изощренными и разнообразными, значение Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) в регулировании таких преступлений приобретает особую актуальность.
Обзор текущей терминологии, касающейся цифровых преступлений, показывает ее сложность и некоторую несогласованность. Законодательство и наука не имеют общей терминологии в сфере цифровой информации ни внутри своего сегмента, ни между собой.
Исследование законодательного регулирования представляется необходимым начать с Конституции РФ, поскольку она является основным законом государства, особым нормативным правовым актом, имеющим высшую юридическую силу, и определяет основы политической, правовой и экономической систем государства, основы правового статуса государства и личности, их права и обязанности. Так, в п. М ст. 71 устанавливается, что в государственном ведении находится применение «информационных технологий» и оборот «цифровых данных». Поскольку указанные закрепленные положения являются основополагающими, то других иных интерпретаций не должно быть. Возможно допустить их расширение, изменение количественного состава, но идентифицирующий признак должен остаться неизменным.
ФКЗ от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ в ст. 37 устанавливает электронную форму документа (обращения в суд) и подписание его электронной подписью, а также переписку с заявителем в электронном виде. ФКЗ «О референдуме» п. 3 ст. 19 также определяет использование электронной подписи сведений о результатах выборов. При этом Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ (ред. от 28.12.2024) «Об электронной подписи», определяя сущность электронной подписи, указывает, что на основании ст. 19 на правительственную комиссию возлагаются функции по «мониторингу развития цифровой экономики и цифровых технологий и формированию прогнозов развития цифровой экономики и цифровых технологий».
Федеральный конституционный закон от 6 ноября 2020 г. № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» при закреплении полномочий в п. 3 ст. 23 указывает, что оно «осуществляет меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий, обороте цифровых данных».