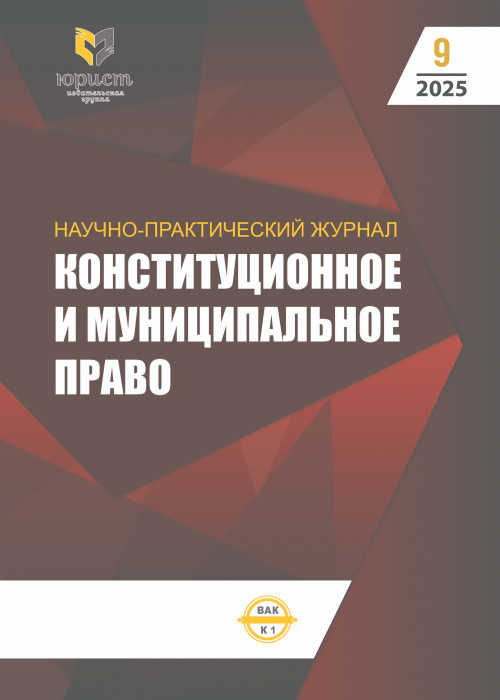Предпосылки конституционно-правового закрепления «иных» элементов системы публичной власти в субъектах Российской Федерации
Аннотация
Основанием для исследования предпосылок конституционно-правового закрепления «иных» элементов публичной власти выступает рассмотрение их состава, содержания деятельности и решаемых задач, а также полномочий, закрепленных в нормативных правовых актах. Именно анализ такого перечня параметров на предмет соответствия признакам публичной власти определяет целесообразность включения тех или «иных» элементов в состав единой властной системы. Автором статьи проведен анализ функционирования общественных институтов и их взаимодействия с элементами системы публичной власти субъектов Российской Федерации, выявлены объективные предпосылки для включения их в существующую систему публичной власти.
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Конституционное и муниципальное право № 09/2025 |
| Страницы | 31-35 |
| DOI | 10.18572/1812-3767-2025-9-31-35 |
Согласно ст. 3 Конституции РФ народ Российской Федерации представлен в качестве единственного источника власти, который «осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления». Формулировка ст. 132 Конституции РФ определяет состав участников системы публичной власти, не ограничивая их количества и состава. При этом анализ содержания конституционноправовых актов показывает, что ни в одном из них (ни в Конституции РФ, ни в последующих федеральных законах) содержание понятия публичной власти и ее состава на уровне нормы права не закреплено.
Вышеперечисленное подтверждает, что в систему публичной власти, наряду с подсистемой органов государственной и муниципальной власти, входят и «иные» элементы.
Логичным при исследовании конституционноправовых предпосылок закрепления «иных» элементов системы публичной власти является определение их состава, так как в нормативных актах также нет исчерпывающего перечня указанных элементов.
Рассмотрим непосредственное участие народа в реализации властных функций, закрепленное в ст. 3 Конституции РФ. Такое участие предполагает референдум и свободные выборы, которые с конституционно-правовых позиций целесообразно считать процессом «ответственного делегирования народом власти».
О целесообразности включения прямого волеизъявления в состав элементов системы публичной власти свидетельствует закрепленная в ст. 1 Федерального конституционного закона от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» реализация властных полномочий «по вопросам государственного значения». Однако Б.С. Эбзеев считает, что прямое волеизъявление — это не власть, а «организационнополитический и функциональный принцип осуществления публичной власти»4 Аналогичных взглядов на приоритет власти народа придерживается О.Е. Кутафин.