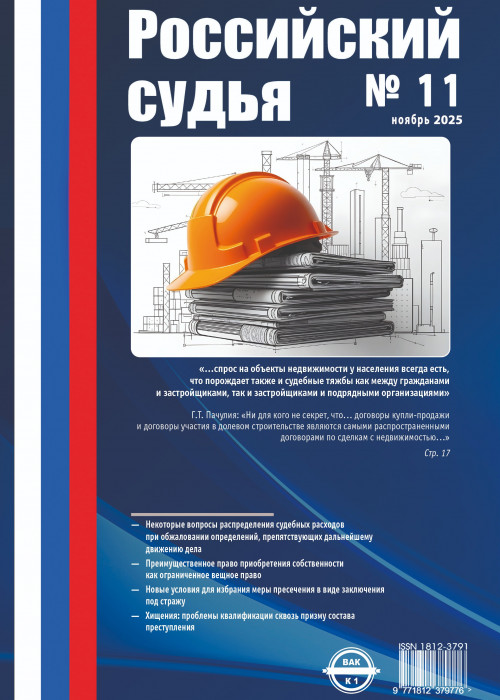Реализация бремени (принципа) добросовестности через призму судебной практики судов общей юрисдикции
Аннотация
В данной статье автор рассматривает существо понимания бремени (принципа) добросовестности в науке и применение данного основного начала гражданского законодательства при принятии судами общей юрисдикции решений.
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Российский судья № 11/2025 |
| Страницы | 21-25 |
| DOI | 10.18572/1812-3791-2025-11-21-25 |
Добросовестность, получившая полноценную охраноспособность после реформы о закреплении ее в виде основного начала частноправовых отношений, плотно вошла в гражданский оборот в качестве нравственного источника правовых инструментов частного права. Законодатель возложил обязанность оценивания добросовестного поведения как на суд, так и на участников гражданских правоотношений.
В первую очередь логичное опасение дореволюционных, советских и даже современных юристов связано с наличием в принципе добросовестности элемента субъективной интерпретации, означающего известное субъективное состояние лица в зависимости от знания или незнания фактов. Советские мыслители уверяли, что признание принципа добросовестности в качестве основополагающего ставит под угрозу весь правопорядок. Следует признать наличие сомнений и в зарубежных правопорядках, так, после расширения действия принципа добросовестности в гражданско-правовых актах Германии и Швейцарии появилась проблема ограничения произвола судов. Как и любая правовая реформа, эта не стала исключением с позиции разделения мнений за и против.
В нынешнее время совершенно неизбежным является тот факт, что в некоторых делах судьи затрудняются толковать смысл, вкладываемый субъектами в понятия «добросовестность», «недобросовестность». Как отмечает Д.В. Дождев, формальные трудности возникают у судов в случае, когда добросовестность толкуется лишь как добросовестность при исполнении обязательства, выводя при этом межотраслевые фигуры, такие как «добросовестный должник», при том что российское гражданское законодательство регулирует данный вопрос в части установления ответственности за нарушение обязательств. Добросовестный конкурсный управляющий, добросовестный супруг, добросовестный работник, добросовестный налогоплательщик и другие формулировки с использованием данной дефиниции могут быть совершенно неуместными, поскольку при столкновении с их правоприменением можно ссылаться на специальные нормы, регулирующие конкретное правоотношение. Потому существует необходимость при толковании ссылаться на добросовестность как на общий принцип.
При рассмотрении данного вопроса следует обратиться к определению смысла позитивистского подхода, который законодатель вложил в фундамент требования к судье проявить усмотрение в определении добросовестности или недобросовестности субъекта. Юридический позитивизм, сформированный в качестве концепции на рубеже XVIII–XIX вв., ныне претерпел трансформацию в связи с особенностями современной юридической науки России. Широкое развитие различных теорий и школ говорит о наличии научного плюрализма, при этом активным юридическим дискуссиям подвержены проблемы либерально-демократического характера — разделение властей, защита частной собственности и т.д. Уход юридического позитивизма от своей природы демонстрирует особый интерес научного сообщества к сущности права, особую роль уделяя нравственной ценности права.
Надо сказать, что существующий ориентир на изучение, толкование нравственных начал в праве ставится в рамках деятельности многих субъектов права, потому и вопрос судейского усмотрения на предмет добросовестности в действиях лица имеет непосредственное отношение к ныне существующему позитивистскому подходу в праве.