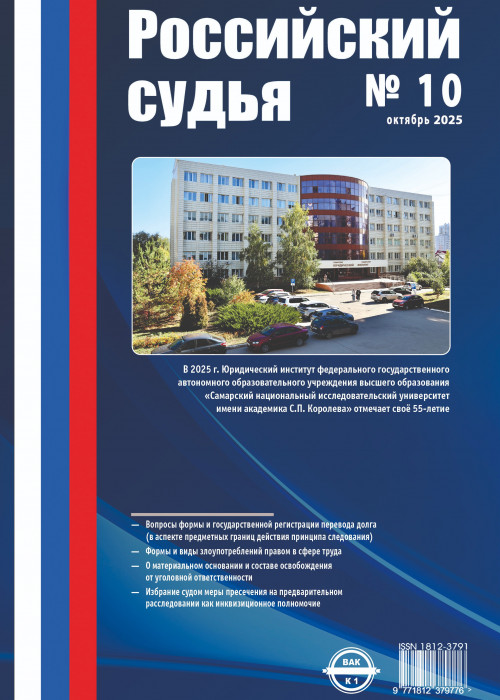О понятии Особенной части российского уголовного закона: историко-правовой анализ
Аннотация
В статье рассматривается комплекс вопросов о доктринальном определении общего понятия Особенной части российского уголовного закона. Устанавливаются и исследуются отдельные отличительные признаки Особенной части уголовного закона для российской правовой системы в контексте исторических и национальных детерминант. На основе ретроспективного, юридико-технического и социально-правового анализа предлагается новый взгляд на определение общего понятия Особенной части с учетом специфики становления и формирования этого системно-структурного компонента российского уголовного закона.
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Российский судья № 10/2025 |
| Страницы | 33-38 |
| DOI | 10.18572/1812-3791-2025-10-33-38 |
К истории и постановке проблемы. Общая и Особенная части – продукт развитого уголовного права. Как утверждал М.Д. Шаргородский, «почти до конца XVIII в. деление на Общую и Особенную часть не было принято. Оно появилось во Франции в кодексе 1791 г., в Баварии в кодексе Фейербаха 1813» .
В отечественной науке уголовного права категория «Особенная часть» использовалась с начала ХIХ в., правда, без привязки к системно-структурному строению уголовного закона и без стремления к доктринальному определению этого понятия. Так, И.Е. Нейман писал: «Уголовное право в собственном смысле или законы о преступлениях и наказаниях за оные разделяется на две главные части: первая содержит правила о преступлениях и налагаемых за оные наказаниях вообще; вторая имеет предметом положения о разных преступлениях и наказаниях за каждое из них определяемых. Первая из сих частей называется в учебных книгах общею, а вторая особенною частью уголовного права; но выражения сии сами по себе неясные и не введенные в другие языки просвещенных народов, кроме немецкого, оставлены нами как излишние технические слова» . Г.И. Солнцев отмечал: «Уголовное право, в собственном смысле взятое, правоведами обыкновенно подразделяется на две части, из коих в первой излагаются общие начала о преступлениях и наказаниях и о применении к оным преступлениям законов уголовных; во второй исчисляются все возможные частные виды преступлений и полагаемых за оные наказаний. Оная первая часть обыкновенно именуется общею или философскую; а последняя особенною или собственно положительную, аналитической частью науки уголовного права».
В начале ХХ в. отечественные ученые-юристы также указывали, что «материальное уголовное право делится на часть Общую и часть Особенную; обычно в первой изучаются преступления и наказания как родовые понятия, в их общем виде; в Особенной же части изучаются и классифицируются отдельные роды и виды преступлений и излагаются положенные за них наказания» . При этом специалистам тех переломных лет Особенная часть стала представляться «очень неразработанной». «Может быть, – замечал С.В. Познышев, – понадобится еще целое поколение ученых прежде, чем она достигнет всей желательной полноты и высоты развития. Этой неразработанностью и объясняется, что в курсах и очерках Особенной части господствующее место занимает положительное право».
Следует акцентировать внимание на желании отечественного законодателя в тот исторический период «сконцентрировать основные преступления» в уголовных законах государства, систематизировать их виды, но не свести в единый свод в одном нормативном правовом акте. Так, в Уголовном уложении 1903 г. («кодексе, во многом превосходившего кодифицированное уголовное законодательство западноевропейских стран» ) можно содержательно «обнаружить» Особенную часть уголовного закона – со второй главы Уложения и далее. Однако в этих главах не был собран полный перечень деяний, признаваемых в государстве преступлениями. В ст. 5 Уголовного уложения предусматривались случаи, когда в пределах Российской империи положения этого закона не действовали (например, за совершение деяний, наказуемых по обычаям инородческих племен).
Будучи самыми крупными компонентами Уголовного уложения 1903 г., главы не были объединены в этом законе ни в Общую, ни в Особенную его части. Тем не менее в XIX – начале XX в. сильна потребность российской государственности в реализации общей идеи – «nullum crimen, nulla poena sine lege» (нет преступления, нет наказания без закона). Длительное время судебного усмотрения заканчивается стремлением указания уголовно наказуемых деяний в самом законе.