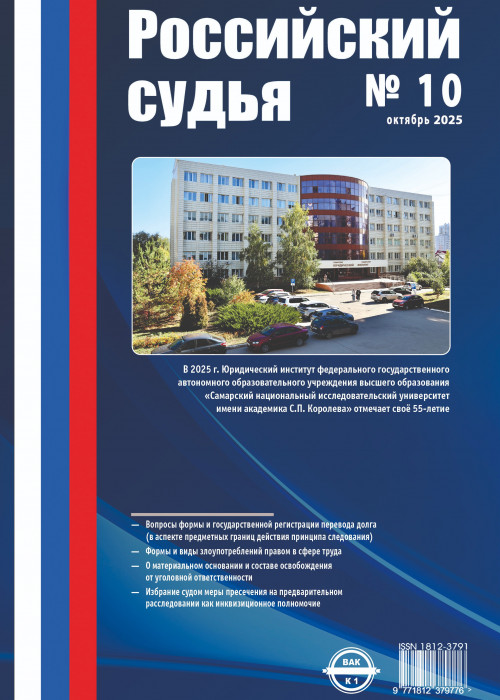Конкуренция некоторых нереабилитирующих оснований прекращения уголовного дела: есть ли проблема?
Аннотация
В статье рассматривается вопрос о соотношении публичных и частных начал в уголовном процессе. На примере институтов, закрепленных в ст. 25 и 25.1 УПК РФ, автор отмечает наличие такой проблемы, как конкуренция дискреционного полномочия суда на прекращение дела и диспозитивного права сторон влиять на выбор основания при принятии решения. Проанализировав опубликованную практику, автор приходит к выводу, что при выборе основания освобождения от уголовной ответственности судьи отдают предпочтение судебному штрафу. При этом часто не учитывается мнение потерпевшего ни о примирении с обвиняемым, ни о полном возмещении причиненного преступлением вреда.
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Российский судья № 10/2025 |
| Страницы | 21-26 |
| DOI | 10.18572/1812-3791-2025-10-21-26 |
В первом полугодии 2023 г. суды прекратили по нереабилитирующим основаниям уголовные дела в отношении 67 871 лица, за аналогичный период 2024 г. – 63 580 лиц. При этом на примирение и судебный штраф пришлось 84% и 79% от общего числа лиц, в отношении которых дела прекращены по нереабилитирующим основаниям. Несмотря на то, что эти основания применяются чаще других, единообразного подхода в судебной практике не сложилось.
Одним из наиболее острых является вопрос о конкуренции примирения и судебного штрафа. При наличии одновременно условий, позволяющих прекратить дело по любому из этих оснований, возникает вопрос о том, от каких участников процесса зависит его выбор? Вопрос может показаться странным в связи с очевидностью ответа на него. В то же время его решение не кажется простым, если выбор ставить в зависимость от соотношения в современном уголовном процессе публичного и частного начал. В советский период публичность уголовного процесса связывалась с защитой государственного интереса, хотя не исключалась охрана интересов частных лиц, если они не противоречили государственному интересу. При этом действия органов расследования и суда не ставились «в зависимость от усмотрения заинтересованных лиц и организаций». С началом судебной реформы содержание публичности изменилось. Теперь частный интерес – это часть публичного интереса. Если этот интерес законный, его защита становится публично-правовой обязанностью правоохранительных органов, «высшим …проявлением публичного» интереса.
Защита публичного интереса в современный период осуществляется разными способами – императивным, дискреционным и диспозитивным. Императивный способ защиты предполагает исполнение правоприменителями возложенных на них законом процессуальных обязанностей; дискреционный – характеризует свободу усмотрения публичных субъектов в реализации некоторых полномочий. Диспозитивный – связан с осуществлением защиты публичного интереса через частных лиц (прежде всего потерпевшего), которым законом в некоторых случаях предоставлено право влиять на возникновение и развитие судопроизводства и обеспечена возможность пользоваться этим правом по собственному усмотрению, но не без помощи должностных лиц, принимающих процессуальные решения по делу.
Все эти способы сегодня нашли отражение в законе. Согласно ст. 20–22 УПК РФ публичные субъекты возбуждают дела о любых запрещенных уголовным законом деяниях. В то же время исполнение этой обязанности по делам частно-публичного обвинения поставлено в зависимость от волеизъявления потерпевшего, который путем подачи заявления инициирует возбуждение дела, а по делам частного обвинения он исполняет публичную функцию обвинения.
Исключительное полномочие публичных субъектов прекращать преследование по делам любого из видов обвинения может носить как императивный, так и дискреционный характер. В случаях, предусмотренных ст. 25 и 25.1 УПК РФ, оно является дискреционным. Одновременно участникам процесса законом предоставлено диспозитивное право влиять на прекращение дела по данным основаниям. Процессуальная роль обвиняемого в принятии этого решения должна быть главной, принимая во внимание нереабилитирующий характер оснований. Поэтому справедливо, что прекращение дела по каждому из них допускается с согласия обвиняемого, а при наличии сразу обоих оснований – по тому, по которому он не возражает.