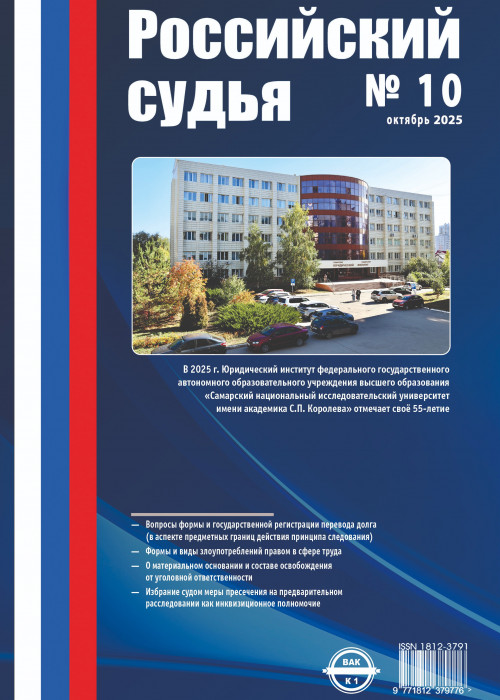Вопросы формы и государственной регистрации перевода долга (в аспекте предметных границ действия принципа следования)
Аннотация
Работа посвящена исследованию проблематики формы и государственной регистрации актов, опосредующих привативный и кумулятивный перевод долга, прежде всего, с точки зрения (не)оправданности распространения принципа следования на согласие кредитора. В результате системного толкования предписаний ст. 389 и 391 ГК РФ и с учетом квалификации одностороннего кредиторского волеизъявления в качестве согласия третьего лица на совершение сделки автор делает вывод о неприменимости указанного принципа к данному акту.
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Российский судья № 10/2025 |
| Страницы | 3-8 |
| DOI | 10.18572/1812-3791-2025-10-3-8 |
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) единообразно подходит к регламентации вопроса о форме цессии и перевода долга (что легко объяснимо, памятуя о «генетической» близости данных волевых вариаций перемены лиц в обязательстве): установленные в ст. 389 для уступки требования правила подлежат согласно п. 4 ст. 391 «адаптивному» применению и при преемстве обязанности.
Корневым началом надлежащей объективации воль субъектов здесь, как известно, выступает соблюдение принципа следования, в соответствии с которым форма цессии (перевода долга) напрямую зависит от формы сделки, на которой фундируется «циркулируемое» требование (долг): если «основная» сделка совершена в простой письменной или нотариальной форме, то и перемена лица в обязательстве должна состояться, как гласит п. 1 ст. 389 ГК РФ, «в соответствующей письменной форме». Подчеркнем, что применительно к простой письменной форме приведенную норму не стоит рассматривать в плоскости непреложной идентичности формы – речь, конечно, идет о запрете цессии (перевода долга) «…в форме, менее строгой (здесь и далее курсив в цитатах наш. – Ю.П.)», нежели форма «основной» сделки (а потому письменная форма сделки об уступке требования или «трансферте» долга может быть не только неквалифицированной, а и нотариальной).
Регулирование разбираемого формального ракурса, по сути, сводится к установлению означенного принципа следования (за его пределами, по умолчанию, работают общие правила о форме сделок). Между тем подобный «минимализм» (вкупе с дискуссионностью ряда моментов перевода долга, прежде всего, касаемо его юридико-фактической основы) порою вызывает затруднения у правоприменителя. В частности, неопределенность сохраняется относительно (не)оправданности экстраполяции изучаемых законоположений на некоторые волевые акты, «вовлеченные» в механизм пассивной делегации (исследованию этого тематического блока главным образом и посвящена настоящая статья).
ГК РФ в текущей редакции, раскрывая юридико-фактические предпосылки субъектной модификации обязательства на стороне должника, закрепляет две базовые модели (под одной «вывеской» перевода долга):
во-первых, для любых обязательств востребованным может стать «классический» – привативный – перевод долга (когда, как точно отмечается в Постановлении ФАС Московского округа от 9 ноября 2007 г. № КГ-А40/11472-07 по делу № А40-11228/07-28-124, «…обязательство должно быть перенесено во всей… целостности…» на другое лицо), производимый по соглашению между первоначальным и новым должником (абз. 1 п. 1 ст. 391); при этом действительность такого «трансферта» предопределяется наличием согласия кредитора, которое, среди прочего, может быть заранее данным (п. 2 ст. 391).