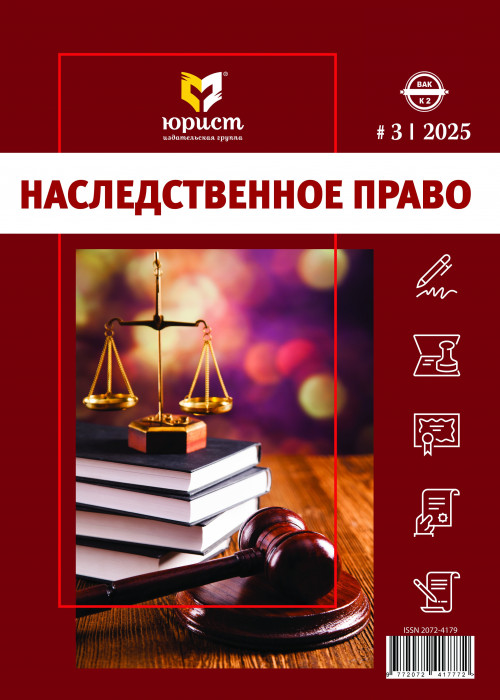Посмертная вненаследственная передача имущества путем совладений в российском праве
Аннотация
В статье выявлена и проанализирована отечественная система совладений в аспекте выполнения ими функции посмертной передачи имущества. Приведен перечень таких совладений, показана их эволюция, приведшая к вымыванию этого института в российском праве. Доказана необходимость возврата совладений в российское право в качестве составной части «второго контура» посмертного правопреемства, дублирующего наследование.
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Наследственное право № 03/2025 |
| Страницы | 31-35 |
| DOI | 10.18572/2072-4179-2025-3-31-35 |
§ 1. Роль совладения и преемства mortis causa и его феодальные корни
Совладение исторически и в наши дни выполняет важнейшую роль при посмертном преемстве. Оно переносит высвободившийся в связи со смертью совладельца имущественный интерес остальным — пережившим его — совладельцам вне наследственного порядка, а значит, и без всех обременительных для членов семьи последствий: реализации необходимыми наследниками их права на обязательную долю, необходимости принимать наследство, оплачивать нотариальную пошлину и налоги на наследство (в странах, где таковые имеются), а некоторые виды совладений — и без ответственности по долгам умершего перед его кредиторами.
Права умершего непроизвольно и столь плавно «перетекают» к пережившим совладельцам, не затрагивая наследственного порядка, что можно смело говорить о юридическом «перпетум мобиле», скажем, в ситуации постепенной поколенческой смены членов семьи, которая, по существу, и является настоящим «коллективным собственником» соответствующего имущества. Наследование в таком случае способно породить лишь смерть последнего члена семьи, который, собственно, совладельцем уже не являлся, поскольку множественность субъектов права на имущество исчерпалась при его жизни и не успела возобновиться, скажем, в результате его брака или рождения у него детей.
Таким образом, коль скоро множественность субъектов права собственности продолжается, имущество в совладении, строго говоря, не переходит по наследству вовсе, а просто остается в собственности переживших членов общности совладельцев, состав которых уменьшается на одно лицо. Образно говоря, меняется не столько перечень имущества у собственников, сколько перечень собственников у имущества, причем само имущество имеет все шансы «пережить» всех своих собственников, полностью обновив их состав. Особенно зримо это прослеживалось в отношении феодальной собственности: замок веками мог оставаться в собственности дворянского рода, представленного, скажем, уже седьмым поколением. Английский энтейл, немецкая заповедная собственность и в некоторой степени российское родовое имущество — примеры институционализации такого феодального совладения. Вместе с тем архаичные по происхождению институты способны надолго переживать свой базис и служить современному обществу, пример чему бессрочный советский жилищный найм, при котором когда-то давным-давно полученная от государства квартира при своевременной прописке туда детей, внуков, в сущности, оставалась во владении семьи вечно, поскольку непрерывно сохранялся хоть один квартиросъемщик. Другой пример — уже из сферы публичного права — наследственная монархия, достоинства которой по сравнению с республикой неоспоримы, а коллективное совладение государства династией обеспечивается всем известной сентенцией: Le Roi est mort, vive le Roi! [Король умер, да здравствует король!]
§ 2. Совладение как сингулярное вненаследственное посмертное преемство