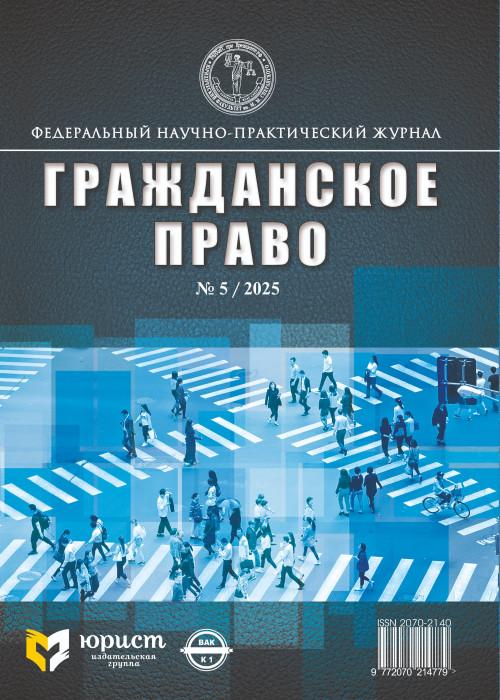О некоторых традициях в регулировании и защите владения: история и современность
Аннотация
В статье предлагается экскурс в некоторые эпизоды истории законодательного определения и судебной защиты института владения в Российской империи и современной России.
| Тип | Статья |
| Издание | Гражданское право № 05/2025 |
| Страницы | 2-6 |
| DOI | 10.18572/2070-2140-2025-5-2-6 |
Традиции — это сложное и многомерное явление, разговор о которых не так часто заходит в юридических дискуссиях «дня нынешнего». Однако бывают времена, когда в практическом законотворчестве традиции отслеживаются регулярно, особенно в эпохи перемен. Достаточно вспомнить, как пристально изучался исторический опыт России в 1990-х годах, когда происходило переосмысление правовых институтов и категорий советского права. Вместе с институтами государства трансформировались институты частного права, а с ними и старые дискуссии. Одной из них была и остается дискуссия о владении, его юридическом содержании, последствиях и основаниях защиты. Представляется небезынтересным проследить, какие элементы старых дискуссий сохраняют актуальность в наши дни.
Когда речь заходит о базовых институтах гражданского права, к числу которых относится и владение, неизбежно вспоминается римское право, на традициях которого были воспитаны отечественные цивилисты. Однако стоит иметь в виду, что из римского права выросло несколько разных европейских правопорядков. Строго говоря, даже система общего права усвоила и по-своему развила ряд идей, в том числе основанных на принципе добросовестности. Так, в статье В.А. Томсинова, констатируется наличие двух традиций трактовки владения двумя классическим гражданскими кодексами Европы: как способа приобретения вещных прав в Гражданском кодексе французов 1804 г. и как одного из вещных прав в Германском гражданском уложении 1900 г. Следовательно, необходимо определить, какой из правопорядков следует учитывать при определении правовой природы владения в русском праве. Так случилось, России довелось искать собственную трактовку владения как в начале, так и в конце ХХ в. Несмотря на то что в целом традиция склонялась и склоняется к германской версии, российское понимание владения отличалось особенностями, которые позволяют говорить об определенной близости к римским источникам.
В конце XIX — начале ХХ в. термин «владение» не был четко определен в отечественном законодательстве и употреблялся в разных значениях, далеко не только как синоним термина «право собственности». Он мог обозначать правомочие собственника в составе классической триады, что обозначалось в Своде как владение вотчинное, вечное и потомственное (ст. 513 т. Х СЗРИ по продолжению 1857 г.). Тем же словом называли право пользования чужим имуществом, пределы и срок которого могли варьироваться на основании правоустанавливающего акта (ст. 514) или распоряжения правительства. Последнее чаще всего касалось случаев отвода казенных земель (угодий), когда право собственности сохранялось у казны, а тем, кому эти земли отведены, принадлежало право владения (ст. 515). Наконец, речь могла идти об экономическом факте пребывания имущества под контролем лица. Такое фактическое владение признавалось добросовестным, если владелец не знал, что имущество по закону или вследствие истечения срока приобретательской давности принадлежит другому (ст. 529).
При рассмотрении разнообразных споров о владении Сенату в качестве кассационной инстанции приходилось опираться как на имеющуюся практику, так и на традицию. Пытаясь избежать казуистичности бытовавших тогда в законодательстве определений, авторы проекта Гражданского уложения Российской империи предлагали формулу: «Владение приобретается поступлением имущества во власть лица в соединении с намерением его владеть имуществом для самого себя» (ст. 878 третьей книги). Для сравнения: Германское гражданское уложение в § 854 толковало только о фактической власти лица над вещью. Такого же подхода предлагалось придерживаться в Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, где написано, что «владение следует урегулировать как факт (фактическое отношение), а не как право». Это, правда, не подразумевало, что следует отказаться от правомочия владения, которое входит в состав ряда вещных прав. В Гражданском кодексе владение предлагалось определить как «господство над вещью». То есть речь шла тогда о полном копировании германского подхода, тогда как русская дореволюционная версия акцентировала важный и для классического римского права animus, т.е. «дух владения». Однако новое Гражданское уложение Российской империи так и осталось проектом. Правда, идея сочетания корпуса и духа владения окончательно не оставлена и обозначена в законе применительно к ситуации, когда наличие факта владения связано с приобретением права собственности по давности владения. Согласно п. 1 ст. 234 ГК РФ, «лицо — гражданин или юридическое лицо, — не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность)». Право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в силу приобретательной давности, с момента такой регистрации.