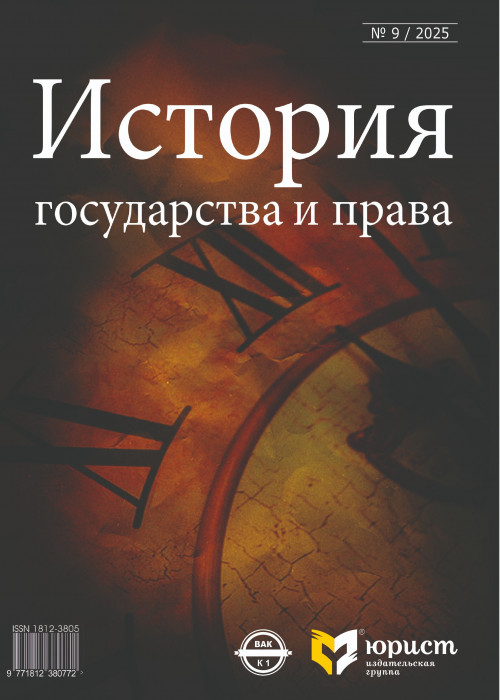Две империи: Церковь и государство на пути к Новому времени
Аннотация
В статье рассматривается государственно-правовой аспект специфической ситуации, сложившейся на этапе перехода от Средневековья к Новому времени. Это отношение между Церковью и государством, имперской формой государственности и государственным (национальным) суверенитетом. Смена эпох рождала новые власти, правовые феномены и символы.
| Тип | Статья |
| Издание | История государства и права № 09/2025 |
| Страницы | 2-10 |
| DOI | 10.18572/1812-3805-2025-9-2-10 |
С древних времен на историческом пространстве Европы происходило последовательное территориальное передвижение идей и институций Империи – Ассиро-Вавилонская, Персидская, Греко-Македонская, Римская монархии. В Средневековой Европе была сформулирована целая теория «перенесения», согласно которой христианская империя, символ грядущего Града Божия, будет последовательно переходить от народа к народу, от государства к государству. (Так, на Русь символ империи в форме Третьего Рима, должен был перейти в соответствии с идеологическо-религиозной установкой XV–XVII вв.) Католическая церковь Запада, восприняв многие черты и формулы римской имперской идеи, смогла превратить саму римскую идею в некий вечный образ мировой Империи. Все Средневековье, Новое время и даже часть Новейшего пройдут под знаком этого символа. Актуальные формы монархической государственности и модернизированных империй займутся дальнейшим цитированием образа «Вечного Рима». Но этот же идеал приняла и попыталась воплотить в себе Церковь, выраставшая в глубине Римской империи и достигшая своего духовного и институционального расцвета в Средневековье.
Стремление к абсолютному, внешней безграничности, что вообще свойственно всякой имперской идее, предполагало известную внутреннюю ограниченность. «Пример этому дает любая крупная империя, любая считающая себя абсолютной и единственно правильной философская и религиозная система, прежде всего та самая великолепная попытка универсального толкования мира и мирового правительства, как римско-католическая церковь».
Логика универсального идеала требовала, чтобы власть находилась в одних руках. Практический политик всегда видел перед собой единственную монархию – Церковь, «земную и одновременно надмирную империю»: ее идея была полностью идеократична. В этой связи идея о «двух мечах» государства становилась неприемлемой. В теократическом государстве, принцип которого постоянно утверждался папой, первое место занимала иерархия и ее священнический глава, «естественный» глава государства.
Пример давал все тот же Древний Рим. Савиньи писал: «Государства, в которые растворилась Римская империя, ссылаются на состояние империи до этого растворения». Древний Рим дал оружие сразу двум идеалам, обоим политическим направлениям – как универсализму, так и национализму. Но политический идеал Рима оказался даже более религиозным, чем его церковный идеал. Этот идеал и дал возможность национального возрождения: ведь «тот, кто отказывается от Рима, одновременно отвергает и имперскую мысль».
Уже в XIII в. Священная Римская империя претерпевает потрясающий ее кризис. Мир шел исторически неизбежным, но пагубным для него «путем от всемирного бытия к народному или… «национальному», – от насильственного единства к свободному множеству и разделению народов». По словам Данте Алигьери «отдельные народы и государства не могут никогда успокоиться на том, чем они обладают, но всегда ищут новых приобретений». Значит, войны между ними неизбежны. «Чтобы уничтожить саму причину войны, нужно, чтобы на всей земле было одно Государство и один государь, который… удерживал бы подчиненных ему государей в назначенных им границах». Только в монархии человечество живет свободно для себя, ею устраняются «порабощающие» людей правления – демократии (в смысле платоновой и аристотелевой охлократии) и тирании. Государь такой будущей монархии у Данте Алигьери выступает как некий таинственный «Вождь».