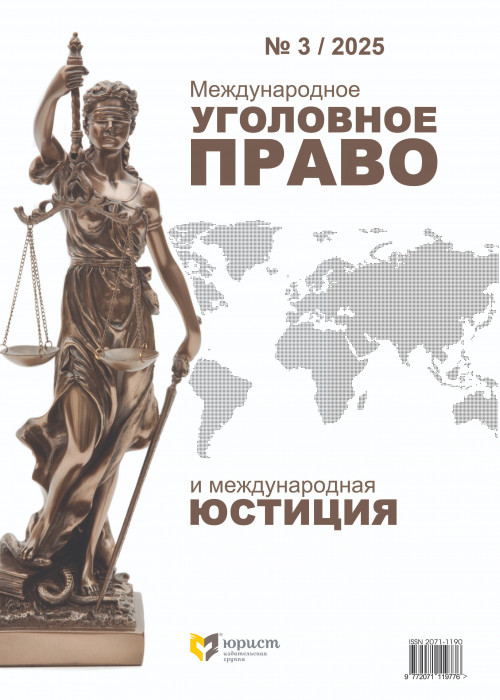Установление уголовной юрисдикции в отношении коррупционных преступлений: действующий механизм и некоторые перспективы его совершенствования
Аннотация
Исследуются вопросы установления уголовной юрисдикции в отношении коррупционных преступлений с иностранным элементом. Анализируется действующий механизм ее установления, прежде всего на основе норм Конвенции ООН против коррупции 2003 г., определяющих равнозначные территориальную, персональную и защитную юрисдикционные привязки. С учетом существующих альтернативных международно-правовых и национальных подходов рассматривается возможность оптимизации системы разрешения юрисдикционных коллизий путем введения иерархии привязок, приоритетной из которых является защита интересов государства, пострадавшего от преступления. Обосновывается эффективность такого подхода и оцениваются перспективы его внедрения на региональном уровне.
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Международное уголовное право и международная юстиция № 03/2025 |
| Страницы | 6-9 |
| DOI | 10.18572/2071-1190-2025-3-6-9 |
Закономерности установления юрисдикции в отношении отдельных преступлений, осложненных иностранным элементом, и отдельных преступлений по международному праву составляют особенную часть коллизионного уголовного права, назначением которого, как представляется, является обеспечение выбора надлежащего государства уголовного преследования и правосудия в отношении транснациональных и международных преступлений. Нормы, относящиеся к этой юридической сфере, выработаны и относительно коррупционных преступлений. Это неудивительно: коррупционные преступления — одни из наиболее распространенных преступлений международного характера, и они всегда имеют больший, чем многие прочие, потенциал стать осложненными иностранным элементом; кроме того, нормы о правовых мерах противодействия коррупционным преступлениям стали предметом международно-правовой кодификации на универсальном уровне. А посему представляется не лишенным научного и практического интереса описать действующий и, как будет показано далее, практически общепринятый механизм установления уголовной юрисдикции в отношении коррупционных преступлений, а также оценить его эффективность (1) и смоделировать перспективы применимости к названного рода преступлениям иерархии юрисдикционных привязок, где в качестве генеральной привязки действовала бы следующая из защитного и пассивного персонального принципов (jurisdictio rei publicæ / nexus victimæ), в качестве дополнительных могли бы быть кумулятивно применены следующие из территориального (jurisdictio loci delicti commissi) либо — в отсутствие возможности применения предыдущей — активного персонального (jurisdictio nexus delinquentis) принципа, в качестве вспомогательных в отсутствие какой бы то ни было возможности применения привязки jurisdictio rei publicæ / nexus victimæ иерархически действовали бы jurisdictio loci delicti commissi или — за невозможностью — jurisdictio nexus delinquentis, а в качестве субсидиарной — следующая из универсального принципа (jurisdictio obligationum inter gentes) (2).
1. Действующий механизм установления уголовной юрисдикции в отношении коррупционных преступлений, осложненных иностранным элементом. В качестве опорного документа, устанавливающего стандарт юрисдикционных правил в отношении преступления коррупции, является Конвенция ООН против коррупции 2003 г. (далее — Конвенция). Участниками Конвенции является 191 государство. Юрисдикционная норма в части объема проявляется сразу в нескольких статьях Конвенции: им охватываются подкуп национальных публичных должностных лиц (ст. 15 Конвенции), подкуп иностранных публичных должностных лиц, подкуп должностных лиц публичных международных организаций (ст. 16 Конвенции), хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом (ст. 17 Конвенции), злоупотребление влиянием в корыстных целях (ст. 18 Конвенции), злоупотребление служебным положением (ст. 19 Конвенции), незаконное обогащение (ст. 20 Конвенции), подкуп в частном секторе (ст. 21 Конвенции), хищение имущества в частном секторе (ст. 22 Конвенции), а также отмывание доходов от указанных преступлений (ст. 23 Конвенции), сокрытие имущества, полученного в результате указанных преступлений (ст. 24 Конвенции), воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25 Конвенции). Юрисдикционные привязки закреплены в ст. 42 Конвенции: они имеют совершенно одинаковую силу (в силу разрешительного правила) и основаны на территориальном принципе (ст. 42 (1) (a), 42 (1) (b) Конвенции), пассивном персональном принципе, толкуемом ограничительно (принцип пассивного гражданства, ст. 42 (2) (a) Конвенции), активном персональном принципе (ст. 42 (2) (b) Конвенции), защитном принципе (ст. 42 (2) (d) Конвенции). Установлено обязательство aut dedere, aut judicare в отношении как собственных граждан (ст. 42 (3) Конвенции), так и иностранцев (ст. 42 (4) Конвенции). При этом Конвенцией не запрещено применение юрисдикционных правил, установленных национальным законодательством государств-участников (ст. 42 (6) Конвенции), что в числе прочего предполагает возможность субсидиарно обратиться к юрисдикционной норме, основанной на универсальном принципе, поскольку деяния, предусмотренные Конвенцией, являются преступлениями международного характера.