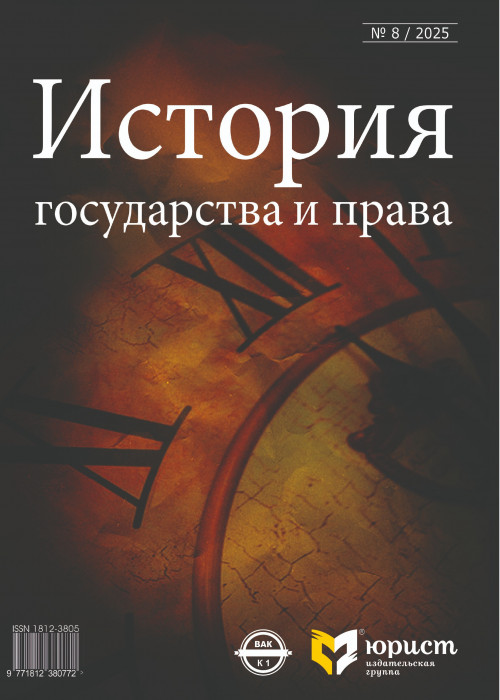Философия права о патриотизме, духовности и правосознании
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы, вызванные глобальной информационной революцией, анализируются категории русской философской мысли «патриотизм», «религиозность», «духовность», «правосознание», их взаимодействие, определяется задача национальной политики — возрождение поиска духовных смыслов.
| Тип | Статья |
| Издание | История государства и права № 08/2025 |
| Страницы | 27-31 |
| DOI | 10.18572/1812-3805-2025-8-27-31 |
Наша эпоха характеризуется лавинообразными процессами глобальной информатизации общества, которые уже начали называть «глобальной информационной революцией», последствия которой можно наблюдать во всех сферах общественной жизни. С ней же связаны и проблемы современного этапа развития цивилизации. Среди основных черт информационной революции выделяют «формирование информационного миропонимания и мировоззрения, которые существенным образом изменяют традиционную вещественно-энергетическую Картину Мира, научную парадигму и методологию научных исследований». Все усилия международного сообщества направлены на решение двух проблем: доступность информации и овладение ее. Благодаря новым технологиям первоисточники становятся легкодоступными, отчего объемы поступающей информации растут в геометрической прогрессии, а задача накопления и систематизация знаний становится неактуальной. Жизнь наполнилась сообщениями бессмысленными, бессодержательными, случайными. Сегодня содержанием сообщения является само сообщение, «само устройство информационного общества устроено так, чтобы изгонять смысл». Из жизни постепенно исчезает смысл — вот главная проблема глобальной информационной революции. Русский мир всегда, даже в советский период, дорожил смыслом, хранил нравственные ценности и духовные устои. Наша национальная традиция есть поиск содержательности и смысла, даже если это кажется скучным и трудным. Возрождение поиска духовных смыслов должно стать «категорическим императивом» национальной политики.
Тема патриотизма сейчас одна из самых обсуждаемых. Хотя она и не нова. В XIX–XX вв. патриотизм был важнейшей категорией русской философской мысли. И.А. Ильин, который больше 30 лет провел за пределами своей родины и умер в эмиграции, считал его одной из высших ценностей. В конце своей жизни И.А. Ильин опубликовал итоговый труд, над которым он работал три десятилетия «Аксиомы религиозного опыта». Н.А. Бердяев, также высланный из Советской России в 1922 г., полагал патриотизм полезным на начальном этапе духовного развития человека. Н.А. Бердяев, по сути, был главным идеологом Русского студенческого христианского движения, много лет быт редактором журнала русской религиозной мысли «Путь». А вот один из величайших в мире писателей, известнейший русский мыслитель, участник обороны Севастополя Л.Н. Толстой относился к патриотизму отрицательно: «Казалось бы, очевидно, что патриотизм, как чувство, есть чувство дурное и вредное; как учение же — учение глупое, так и явно, что, если каждый народ и государство будут считать себя наилучшими из народов и государства, то все они будут находится в грубом и вредном заблуждении». В своих произведениях мыслитель характеризовал патриотизм как рабство, поскольку это чувство, по его мнению, не свойственно народным массам, а прививается им правительством, потому что, как минимум, интересы народа совершенно независимы от государственных или политических интересов. «Я никогда не слышал от народа выражения чувств патриотизма, но, напротив, беспрестанно от самых серьезных, почтенных людей народа слышал выражения совершенного равнодушия и даже презрения ко всякого рода проявлениям патриотизма». Братская любовь друг к другу естественна, но она не существует, поскольку отсутствует подлинное духовное просвещение. И если Л.Н. Толстой называет звание солдата постыдным и безбожным, призывает свергнуть его и перенести все страдания, которые последуют за этим, то И.А. Ильин находил в войне духовный смысл. Он воспринимал современное ему общество как величайшее нравственное и духовное разъединение, где «цели других в общем подобны моей, но не совпадают с ней: каждый – за себя и о себе; каждый “понимает” (в лучшем случае) себя и “не понимает” других… каждый слушает только себя и глух для мысли другого…». Где сочувствие и солидарность лишены истинного значения, поскольку объединяются временно в моменте, а пересечения человеческих судеб не могут взрастить семена добра. Война объединяет души, дает им общий смысл: «…она противопоставила нашему мелкому повседневному “здесь” — некое великое “там” и потрясла нас этим там до корня». Она несет духовное испытание и духовный суд, ставит перед человеком начало ответственности: как жил и чем. И вывод здесь только один: если ты готов умереть за то, чем ты жил, значит, все было правильно, значимо и ценно. Только тогда можно говорить о смерти как о подлинном акте духовной жизни.