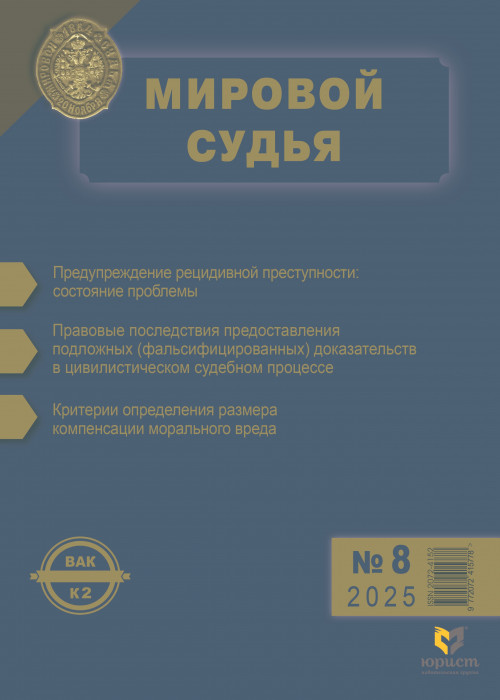Правовые последствия предоставления подложных (фальсифицированных) доказательств в цивилистическом судебном процессе
Аннотация
Статья посвящена проблеме представления заинтересованными в гражданском деле лицами подложных (фальсифицированных) доказательств. Отмечено отсутствие терминологического единства в нормах ГПК РФ, оперирующих понятием «подложное доказательство», и АПК РФ, использующих термин «фальсификация доказательства». Автор исходит из того, что это — разные деяния, влекущие различные правовые последствия. Обосновывается необходимость усиления ответственности суда, рассматривающего гражданское дело, в части решения вопросов, связанных с заявлением о фальсификации (подложности) доказательства.
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Мировой судья № 08/2025 |
| Страницы | 23-29 |
| DOI | 10.18572/2072-4152-2025-8-23-29 |
Как известно, цивилистическое судопроизводство есть область господства диспозитивного и состязательного начал. По сути, это означает, что только сами материально заинтересованные лица решают все вопросы, связанные с возникновением, движением и прекращением судебного процесса. Как писал Е.В. Васьковский, «кто хочет осуществить свое право, должен сам заботиться об этом». Однако, как представляется, эта забота должна иметь известные границы. Ведь, добиваясь принятия благоприятного для себя решения, стороны могут дойти до того, что станут вводить суд, рассматривающий их дело, в заблуждение. Например, путем представления суду подложных доказательств. Очевидно, что такое деяние должно влечь серьезные правовые последствия, вплоть до уголовных.
Начать следует с процессуально-правового регулирования правовых последствий представления суду подложных доказательств. Прежде всего это деяние противоречит требованию, закрепленному в ч. 1 ст. 35 ГПК РФ, в соответствии с которым лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. Безусловно, представление в суд подложных доказательств — это недобросовестное использование своего права на представление доказательств. Однако, провозглашая добросовестность пользования предоставленными законом процессуальными правами, гражданский процессуальный закон не устанавливает за нарушение этого требования никаких конкретных санкций. По этой причине добросовестность пользования процессуальными правами не может быть позиционирована как гражданско-процессуальная обязанность лиц, участвующих в деле.
Отдельные авторы полагают, что добросовестность в цивилистическом процессе и недопустимость злоупотреблений не совпадают между собой и первое понятие шире второго. Исследуя проблему лжи в гражданском судопроизводстве, указывают, что «допущение лжи в судебном процессе противоречит самим основам правосудия», а также «вскрытие факта, что сторона скрыла от суда и сторон существенное доказательство, обманув суд, должно влечь последствия в виде пересмотра судебного акта и лишения обманувшей стороны возможности ссылаться на принцип правовой определенности».
Между тем надо различать ложь и правовое действие. Если сама ложь является примером недобросовестного поведения, то представление подложного доказательства суду — органу государственной власти, находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей, — это уже противоправное деяние. Ложь недопустима для лиц, содействующих осуществлению правосудия по гражданскому делу, — свидетелей, экспертов, переводчиков, которые выполняют свои должностные обязанности, а также конституционно-правовые обязанности содействовать в правильном рассмотрении и разрешении дела. Законом предусмотрена мера уголовной ответственности для названных субъектов, поэтому перед допросом, заслушиванием заключения и т.д. они предупреждаются о ней.
Но стороны как предполагаемые участники рассматриваемого судом правового конфликта могут лгать (или умалчивать об известных им фактах и событиях) не из намерения ввести суд в заблуждение, а в связи с отсутствием юридических познаний. Доказать их умысел на введение суд в заблуждение фактически невозможно, да и некому (у суда в цивилистическом судопроизводстве нет такой задачи).