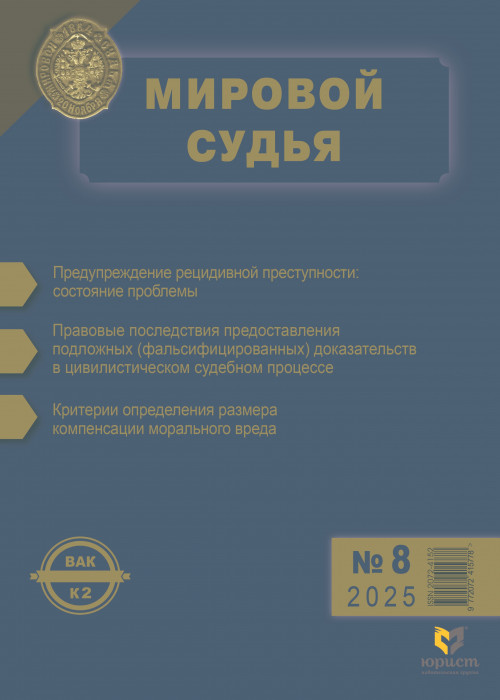Судебный акт как предмет преступления, предусмотренного статьей 305 УК РФ: особенности определения в теории и правоприменительной практике
Аннотация
В статье изучаются особенности правовой конструкции преступления, предусмотренного ст. 305 УК РФ. Автор, анализируя взгляды ученых и практику привлечения судей к уголовной ответственности за совершение данного преступления, рассматривает вопрос о том, какие акты, принимаемые судьями, могут быть предметом данного преступления. На основании изученных данных формулируется вывод о том, что предметом такого преступления может быть последний правоприменительный документ, влияющий на права и обязанности участников судопроизводства, принятый в рамках конкретного судебного производства. На основании этого формулируются критерии определения совокупности преступлений при совершении деяния, предусмотренного ст. 305 УК РФ.
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Мировой судья № 08/2025 |
| Страницы | 18-23 |
| DOI | 10.18572/2072-4152-2025-8-18-23 |
Ежедневная деятельность судьи по исполнению должностных полномочий связана с принятием многочисленных решений, оформленных в виде судебных актов как правоприменительного, так и организационно-распорядительного характера. Какие из них могут быть предметом преступления, предусмотренного ст. 305 УК РФ? Ответить на данный вопрос непросто с учетом того, что законодатель оставляет их перечень открытым, указывая в диспозиции ч. 1 ст. 305 УК РФ оговорку «или иные судебные акты».
Следует отметить, что ученые и практики солидарны в том, что это может быть судебный акт в любом виде судопроизводства, а также в любой инстанции — от первой до надзорной, принятый как единоличным, так и коллегиальным составом суда. Соглашаясь с этими утверждениями в принципе, отметим, что по результатам обобщения практики по данной категории дел было установлено, что все неправосудные судебные акты, за которые судьи подвергались уголовному преследованию, были ими приняты в рамках уголовного, гражданского, арбитражного судопроизводства, а также производства по делам об административных правонарушениях, исключительно по первой инстанции и единолично. Соответственно, сами судьи находились на должностях низовых звеньев судебной системы — мировых, судей районных (городских), гарнизонных военных судов либо арбитражных судов субъектов. Это можно объяснить криминологической особенностью преступления, предусмотренного ст. 305 УК РФ, а именно «приближенностью к населению» судей данных звеньев и инстанций. С участниками процесса судье приходится непосредственно общаться при рассмотрении дела по существу, и от них же чаще всего (хотя иногда и от самого судьи) исходит обсуждаемая конфиденциально инициатива принять решение с нарушением закона в ту или иную пользу. В судах более высоких звеньев, инстанций или при коллегиальном составе это трудно реализуемо.
Полагаем, что, как и объект, предмет данного преступления должен быть связан с конституционной функцией реализации судебной власти и отправлением правосудия. Таковыми являются акты правоприменительные, способные влечь изменение прав и обязанностей участников процесса — решения, постановления, определения, приговоры (отметим, что именно их перечисляла в качестве предмета данного преступления диспозиция ст. 177 УК РСФСР 1960 г.). Согласимся, что к предмету указанного преступления не будут относиться документы, не связанные с осуществлением судопроизводства по конкретному делу (например, постановления об утверждении составов судебных коллегий, обзоров практики, постановления пленума суда и пр.).
При этом такие акты должны быть предметом самостоятельного обжалования (поскольку только так может быть проверена их правосудность) и, соответственно, составляться в виде отдельного документа. Некоторые авторы полагают, что акты конституционного судопроизводства предметом преступления, предусмотренного ст. 305 УК РФ, быть не могут, поскольку они не подлежат обжалованию: «определить неправосудность судебных актов Конституционного Суда РФ невозможно, ибо принимаемые им судебные акты с момента их провозглашения признаются окончательными и обжалованию не подлежат. Более того, отсутствует и орган, который мог бы установить их неправосудность».