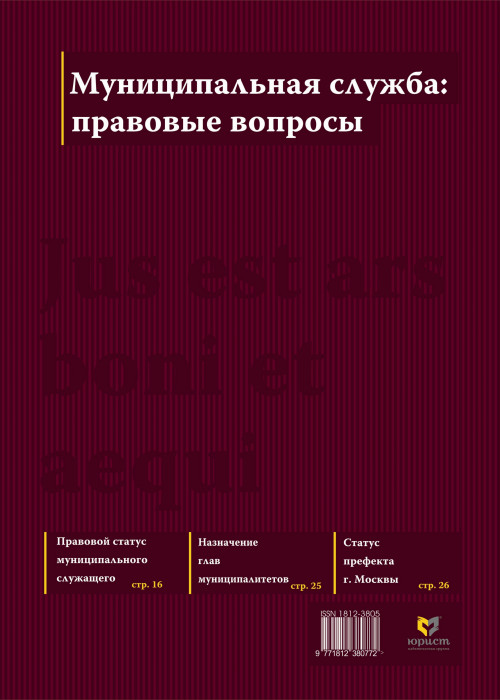Цель и социальное назначение единой системы публичной власти
Аннотация
Рассматривается социальное назначение единой системы публичной власти. Доказывается, что для всех органов публичной власти «эффективное решение задач в интересах населения» является главной целью, а «сбережение народа России, развитие человеческого потенциала, повышение качества жизни и благосостояния граждан» — основной задачей. Обосновывается тезис о необходимости приведения легальных целей деятельности всех субъектов единой системы публичной власти в соответствие с целью, указанной в Конституции РФ, и установления ответственности органов публичной власти всех уровней за неэффективную деятельность по решению задач в интересах народа России.
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Муниципальная служба: правовые вопросы № 03/2025 |
| Страницы | 6-9 |
| DOI | 10.18572/2072-4314-2025-3-6-9 |
В ч. 3 ст. 132 Конституции РФ прямо указывается цель единой системы публичной власти: «взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории». Интересы населения (народа), являясь частью национальных интересов, находят своё выражение в объективно значимых потребностях личности и общества (п. 2 ст. 5 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Утв. Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400). Логично предположить, что решение задач в интересах населения накладывает на органы публичной власти соответствующие права и обязанности. Поэтому в соответствии с ч. 3 ст. 132 Конституции РФ органы местного самоуправления отвечают за «решение задач в интересах населения» в границах муниципального образования, органы публичной власти субъекта федерации – в границах субъекта, федеральные органы власти – на уровне всей федерации. Однако без ответа остался вопрос о механизме применения ответственности за неэффективное решение задач в интересах населения. Ранее, когда действовала ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поднимать вопрос о нарушении интересов населения органами местного самоуправления было уместно. Но с учётом закрепления новой цели деятельности местного самоуправления (ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти») ответ на этот вопрос теряет актуальность и будет зависеть от того, какой смысл мы вкладываем в понятие «осуществление народом своей власти». А значит, нас ожидают дискуссии и «пиршество плюрализма», но не конкретная деятельность по достижению конституционно закреплённой цели деятельности органов местной власти. Без чёткого ответа оставался и остаётся вопрос об ответственности иных органов публичной власти, перед которыми такая цель действующими правовыми актами также непосредственно не ставится. При этом, чем выше уровень власти, тем сложнее найти ответ на вопрос о механизме ответственности органов публичной власти и его критериях. Например, можно ли ставить вопрос об ответственности органов публичной власти субъекта федерации, если в каких-либо муниципальных образованиях на его территории задачи в интересах населения решаются неэффективно? А можно ли говорить об ответственности органов публичной власти федерального уровня, если эффективно не решаются задачи в интересах населения в «значительном (незначительном)» количестве муниципалитетов?
При этом надо учитывать и факт передачи органам местного самоуправления «нефинансируемых мандатов, от которых они не могут отказаться, но могут обжаловать такое решение», в результате «взаимодействие разных уровней публичной власти является деструктивным и вынужденным, порождающим конфликтные ситуации».., а с учётом того, что «более 90% муниципальных образований являются получателями дотаций», ситуация складывается явно не в пользу нижнего уровня единой системы публичной власти. В некотором смысле уместно говорить о формировании «специфической» модели организации деятельности органов публичной власти, которую кратко можно охарактеризовать так: «приказываю я, отвечаешь ты». Такая «модель» отечественного управления, характерная для конца 1920-х – первой половины 1930-х годов в современной научной литературе жёстко критикуется, но диахронное сравнение с иными историческими периодами, как правило, не проводится, причины, по которым советское руководство отказалось от этой «модели» управления, не анализируются. Однако проведение такого сравнения имело бы определённый научный и практический интерес.