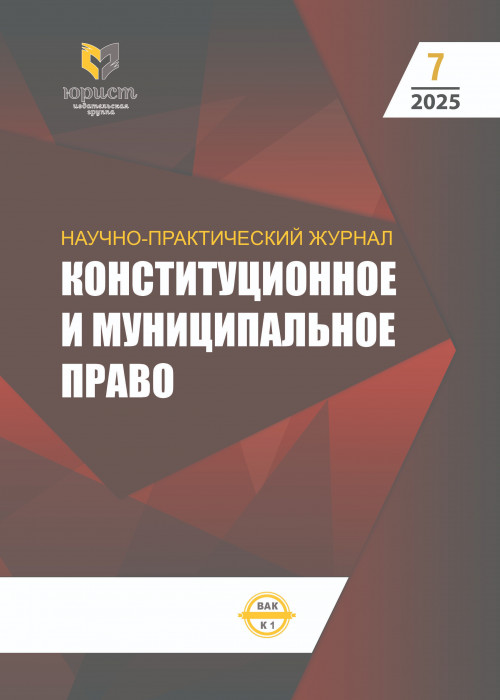«Испытание Конституцией» (актуальная полемика по поводу фундаментальной статьи, посвященной Конституции РФ)
Аннотация
Анализируется статья яркого российского конституционалиста, члена Центральной избирательной комиссии РФ, судьи Конституционного Суда РФ в отставке, экс-Президента Карачаево-Черкессии Бориса Эбзеева, посвященная 30-летию Конституции России. Анализируются яркие и небесспорные положения названной статьи.
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Конституционное и муниципальное право № 07/2025 |
| Страницы | 15-19 |
| DOI | 10.18572/1812-3767-2025-7-15-19 |
К 30-летию Конституции РФ было опубликовано несколько знаковых статей маститых конституционалистов, среди которых особо следует отметить статью Б.С. Эбзеева по нескольким причинам: 1) многие выводы и утверждения потребовали от автора гражданского и научного мужества, учитывая его статусность в прошлом и настоящем; 2) статья воспринимается как обобщающая, будучи плодом богатого научного и практического опыта; 3) в силу остроты или, наоборот, идеологической приглаженности некоторых положений, а также «фигуры умолчания» статья вызывает жажду полемики.
Б.С. Эбзеев видит основной вопрос современного конституционализма во «взаимодействии коллективного и индивидуального в организации общества и социальной солидарности». В самом деле, с конца 80-х годов ХХ в. российский конституционализм претерпел два виража в соотношении индивидуального и коллективного: начиная с горбачевской «перестройки» начался резкий поворот от социалистического коллективизма к буржуазному индивидуализму, что впоследствии и предопределило сущность ельцинской конституции; а сейчас на фоне банкротства либерализма наметился некоторый переход к коллективизму, усиленный конституционной реформой 2020 г. и СВО.
По мнению Б.С. Эбзеева, «Конституция в своей сущности основывается на претерпевающем серьезные изменения естественном праве». Если Конституция в своей сущности опирается на нечто зыбкое (претерпевающее серьезные изменения), то и сама сущность предстает как нечто зыбкое. А ведь естественное право, под которым можно понимать фактически складывающиеся социальные нормативы, есть зыбкая материя, чтобы быть сущностной основой Конституции. Можно ли опираться на то, что зыбко и нестабильно? Социальный хаос, приватизация, бессилие государства перед ОПГ, беспредел 90-х — все это тоже было «естественным» для названного периода. По сути, ничего естественнее и вульгарнее в смысле простоты (vulgaris — простой), чем хватательный рефлекс и право частной собственности, нет. Именно частная собственность явилась сущностью Конституции 1993 г.
Однажды в передаче «Воскресный вечер с Соловьевым» Владимир Рудольфович рассказал, как допытывался у С.М. Шахрая об авторстве ст. 8 и 9 Конституции, в которых частная собственность поставлена впереди государственной, а в частной собственности могут быть земля, недра и т.д. По словам Соловьева, «автор Конституции» отказался от авторства этих статей. Ответ — в статье Б.С. Эбзеева: «На взгляд составителей проекта, цель Основного Закона — гарантировать фундаментальность частной собственности и “свободный” рынок, которые сами по себе обеспечат развитие культуры и прогресса общества. Спустя годы С.С. Алексеев рассказал: «В конституционном совещании мы с Вл. Шумейко возглавляли палату предпринимателей. Среди членов — Хакамада, Бондукидзе. Мы записали, что частная собственность есть неотъемлемое право человека, основа всех его прав и свобод». Этим определялась сущность будущей Конституции и государства, свободного от социальных обязательств перед обществом… Огромный пласт отечественной истории и социальные достижения великого государства приносились в жертву мировоззренческим представлениям составителей проекта Конституции». Такой вывод в устах статусного ученого дорогого стоит, а также упоминание им следующей цитаты С.С. Алексеева: «президентский проект в противовес официальному просоветскому варианту (…) стал своего рода идейной платформой в борьбе с коммуно-советской идеологией». Хорошо, что С.С. Алексеев не употребил термин «красно-коричневые», насаждавшийся в те годы. Но все равно оторопь берет: это говорит один из столпов свердловской школы советской юриспруденции.
Термин «социальное» в те годы отождествлялся с подвергшимся обструкции термином «патернализм», преподносившимся в качестве идеологии лентяев, рассчитывающих на помощь государства, а патриотизм — как «последнее прибежище негодяев». Этот вульгаризм до неузнаваемости исказил мысль о том, что даже у самого последнего негодяя теплится в душе нечто светлое — любовь к родине. С помощью же либеральной идеологической алхимии из этой светлой мысли получился ядовитый субстрат в виде «последнего прибежища негодяя». Вот так же был оболган парламентский проект конституции. На самом же деле в официальном проекте Конституции, подготовленном Конституционной комиссией, не было ничего «коммуно-советского». Как сетовал О.Г. Румянцев, «таковыми были объявлены социально-экономические права граждан и социальное государство».